Глава 24.
Германа вырубило сразу же. Я не успела и слова сказать ему, как он, что-то бормоча и прислонившись к стене, закрыл глаза и заснул.
А перед лицом красовались теперь и другие надписи. Страшные. Ужасающие. Доводящие до мурашек. Я читала каждую шепотом, проводила пальцами по линиям. Это все напоминало агонию сумасшедшего.
Обернулась на Германа, который продолжал сопеть. У меня нет времени, я должна узнать как можно больше.
Тем временем мой телефон разрывался от сообщений, который присылал Илья. Он указывал, командовал, говорил, что именно мне нужно искать. Я брезгливо проигнорировала его. Неужели думает, что в нашей команде он главный? Чушь! Свои приказы пусть оставит при себе.
Я только собиралась распахнуть все ящики и комоды, как послышались шаги в коридоре.
― Эй, бро! Ты где? ― Толик появился слишком быстро, отчего я даже не успела спрятаться, остановившись прямо посреди гостиной. ― Мия? ― Свет от фонаря ослепил меня, я, раздраженная, отошла в сторону. ― Какого... Что ты здесь делаешь?
Он удивился слишком сильно. Даже подозрительно. Нервно заерзал, оглянулся, собираясь спросить о том, где Герман, но Толика тут же заткнул мужской крик.
Это даже не было криком. Воплем, полным такого отчаяния, словно тебя, привязав к электрическому стульчику, мучают до потери сознания, до той грани, где уже начинается смерть. А после будят, снова мучают, доводят, не позволяют умереть. Я шарахнулась от того, как быстро Толик, буквально перепрыгнув через стол, рванул в сторону ванной.
Дилемма. Я могу прямо сейчас найти что-нибудь для шантажа и сбежать как можно скорее, но в то же время меня грызет совесть.
― Мия! Помоги мне!
Я мысленно плюнула на пол, выругалась, и тут же побежала в ванную. Видимо, не до конца ты вышиб из меня добросовестность, Еремеев.
― Наполни ванную! Ну же, чего встала! Тащи свой зад сюда!
Я выполняла эти команды почти что машинально, пытаясь не оглядываться на вопли Еремеева. Уж слишком они жуткими были.
― Почему везде холодная? Где горячая? ― Злилась я всему на свете.
― Здесь нет горячей, только ледяная. Но так даже и лучше. ― Я оглянулась через плечо. Толик отчаянно бил Еремеева по щекам. Будь парень в сознании, он уже убил бы за это друга. ― Ну? Сколько там? Половина? Плевать!
Перед глазами пронеслось дергающееся тело Еремеева, которое с воплем утонуло в воде. Он погрузился на самое дно, я внимательно вглядывалась в эту картинку, которая, безусловно, завораживала. Его светлые волосы расплывчато повторяли волны, как вдруг губы парня раскрылись в немом крике, а глаза распахнулись от ужаса. Я тут же вытащила его из оков воды, продолжая придерживать за мокрую, и оттого отяжелевшую, одежду.
Его грудная клетка тяжело вздымалась, а взгляд все рыскал и рыскал по противной комнате, до тех пор пока не остановился на мне. Не успела я и слова сказать, как уже была прижата к полу, а его руки сжимали мое горло настолько сильно, что стоило ему поднажать ― я бы была мертва.
Вижу его глаза. Такие обезумевшие, готовые действительно к последнему рывку, который и закончит все. Но в них, кроме сумасшествия, было что-то еще. Детский, наивный испуг, какой случается с ребенком, который остается ночью один дома. Он настолько боится, что готов первым же делом защитить себя кулаками. Большой ребенок, который боится собственных же кошмаров.
― Ге... Хе.. ма-ан, ― хриплю я, хватаясь за его руки. В глазах темные блики, воздух не поступает в легкие, я чувствую себя ужасно, словно одной ногой нахожусь в котлах Ада.
― Сучка! Сучка! Мерзкая сучка! ― Орет он во все горло. ― Я убью тебя! Убью! Гребанная мразь!
Толик, не впавший в ужас, толкает друга со всей силы обратно в ванную, где начинает топить в воде. Я отскакиваю (насколько это возможно), хватаюсь за горло, вдыхая жадно жизнь, которую он желал забрать у меня. На глазах выступили слезы, и единственное, что было в моих силах ― это наблюдать за тем, как Толик не позволяет ему выйти обратно.
― Приди же в себя, Герман! ― Толик на мгновение вытаскивает его, дает здоровскую пощечину, и топит вновь, заставляя глотать воду. Тот барахтается, пытается вылезти, чтобы окончательно прихлопнуть меня, но Толик уверенно держит его. Уже не впервые я была восхищена этим человеком. ― Хватит!! Это все сон! Посмотри на меня! ― Это уже не пощечина, это целый удар. ― Реальность!! Помнишь меня? Я! Твой друг! Все, его здесь нет!!
Вытаскивает из воды в последний раз, придерживает, встряхивает на всякий случай, чтобы развеять любое наваждение.
― Мия, будь добра, вытащи полотенце из ящика. ― Но нет, я не слышу его. Смотрю на Еремеева, что дрожал как осенний лист, готовый к падению на сырую землю от любимой ветки.
Кап-кап. Вода стекает по нему. Кап-кап. Он весь дрожит, обняв колени. Кап-кап. Он мальчик, что не научился справляться со своими кошмарами.
Толик неуверенно вышел из комнаты, после чего послышались его шарканья в коридоре. А я, как последняя дура, стала медленно на коленях ползти к Еремееву, который смотрел вперед, продолжая содрогаться и неконтролируемо плакать. Я села возле края ванны, брюки уже впитали разлившуюся по всему полу воду, отчего стало холодно.
― Посмотри на меня, ― попросила я, осторожно протянув к нему руку. Уязвимый. Ничего не осознающий, только чувствующий. Он был ребенком, который не знал, кому верить.
Моя ладонь коснулась его щеки, на что он дернулся, содрогаясь пуще прежнего.
― Это всего лишь я... Видишь, Герман? Это я, Мия... ― Я привстала, в упор глядя на него. Он был моей глиной, из которой я могла изготовить все что угодно.
― Убью... Тебя... ― Выдавил он неуверенно.
Я слабо улыбнулась.
― Разумеется.
И поцеловала его. Сама. По собственной воли. Сердце подтолкнуло вперед, заставляя чувствовать его искусанные от воплей губы, хватать руками лицо в странных шрамах, часть которых оставила я сама, и понимать, понимать, бесконечно понимать, что все это просто нереально, просто происходит не со мной.
Но это происходит. И после этого, после порыва храбрости, уже не важно, что будет следующим утром. Будет, как всегда, ненависть, сопротивление, битва. Будет то, что должно быть. Но ночь... Нет, ночь дана только нам. Ночь для бесконечных поцелуев, для сигарет и алкоголя.
― Твою мать... ― Прошептал Толик возле дверей, увидев нас. Сказать, что он был удивлен ― ничего не сказать. Немой вопрос был запечатлен на его лице. ― Отойди от него нахрен.
Мы отстранились друг от друга одновременно. Разум уже проник в голову Еремеева, но он, пьяно улыбаясь, вдруг послал Толика с непринужденным хохотом.
― Дверь закрой с обратной стороны.
Его друг пожелал оттащить меня, но Еремеев вдруг выскочил из ванны, преградив Толику путь.
― Ты прекрасно слышал меня. ― С нажимом произносит он, уже теряя самообладание. Я смотрела на него как идиотка. Как влюбленная идиотка. Но Толик схватил меня за плечи, оттолкнул к стене, после чего потащил Еремеева вон из комнаты. Я обиженно надула губы, следуя за ним пьяной походкой.
Он уже обтирал его полотенцами, пытался уложить, как маленького, спать, но Герман все не желал униматься.
― Ты же знаешь, блять, что я не засну! ― В конец он послал Толика, который, нервно и злобно, обернулся ко мне.
― Посиди с ним минут пять, пока я не приду. Куплю ему водки, хоть успокоится. ― Настоятельно попросил он, после чего крайне враждебно прошептал на ухо. ― И не смей лезть к нему. Он сейчас не адекватен. Пришибет и все.
Я села прямо на пол, разглядывая скудные стены. Дверь хлопнула, Герман молчал, и я позволила себе расслабиться. Шея неприятно ныла. Он однозначно оставил синяки, которые придется снова прятать. Я чувствовала себя пьяной, немного противной, но такой счастливой.
― Иди сюда. ― Он вытянул руку. Я подошла к нему и села рядом. Он положил свою голову мне на плечо и стал что-то лепетать. Точно ребенок. Моя рука нащупала что-то блестящее на диване, я взглянула на странный пакетик, наполненный будто бы высушенной травой.
― Наркота? ― Я вмиг будто бы и протрезвела, понимая, что в руках держу ту грань, которую не смею переступать.
― Ага. ― Отозвался он, и мне, отчасти, стало ясным то, почему он был сегодня так расслаблен. ― Если хочешь ― бери. Мне не жалко.
Откидываю противный пакет подальше от себя, желая сбежать отсюда. Никогда бы не подумала, что окажусь в подобном притоне. Совесть яростным образом дала мне пощечину.
Однако у Германа были свои планы. Его пальцы аккуратно скользили по контуру оставленных синяков, а уголки губ немного подрагивали от умиления. Ему нравилось все это. И я решила воспользоваться его уязвимостью и разговорчивостью, ибо такого случая мне навряд ли бы предоставилось.
― Кого ты больше всего боишься? ― Осторожно спросила я, сделав голос нежнее.
― Отстань, ― Герман отмахнулся, но я вовремя схватила его лицо в ладони, не позволяя сбежать.
― Ну же, расскажи мне. Я помогу тебе, обещаю. ― Гладила его по волоса, ласкала, как мать, и он тут же стал бессмысленно тараторить.
― Он... Его... Такой страшный. Большой. А ты знала, что у него татуировка на предплечье? Как солнце! Только это не было солнцем... Он сказал, что я должен молчать, иначе черные люди заберут меня. А потом, когда я проговорился Толику, он меня бил... бил... бил... ― Герман задумчиво промолчал, вытянул свои губы, сжал их, после чего долго глядел на меня. ― Это все из-за тебя. Да-а... Из-за тебя. Его бы не было в моей жизни, если бы не ты... Все бы было так хорошо, как у всех обычных семей... ― Глубоко вздохнул. Мое сердце отбивало сумасшедший ритм. ― Солнце... Татуировка в виде солнца, я часто видел ее перед глазами. Всякий раз, когда это случалось, была боль. А она, кстати, молчала! Да! Молчала, хоть и знала. Я хотел рассказать, но он меня поймал... Снова боль. Почему ее так много? А?
― Я не знаю, ― голос сорвался. Он уже смотрел прямо на стену, сложив руки на коленях.
― Из-за тебя... Из-за тебя было много боли. Я смотрел... Я видел тебя тогда... Ты была такая счастливая, не знавшая боли... А потом я приходил почти что каждый день. Я смотрел на тебя, наблюдал... И не понимал. Знаешь чего я не понимал? Почему ты и твоя семья такие счастливые, а я нет! Почему?! Скажи, почему?
Снова отвечаю, что ничего не знаю. Хотя я и не уверена, что смогла выдавить это из себя.
― Однажды спас тебя... Помнишь? Не-ет, ты ничего не помнишь... Или врешь. Врешь, скорее всего, потому что такое невозможно забыть. Машина ехала по дороге, а ты выбежала за мячом. Вспомнила? ― Я зажала рот, чтобы не закричать в эту секунду. Был мальчик! Был! С выбритой головой, словно он спартанец, и такими странными пятнами на лице. ― О! Хоть что-то вспомнила! Это я тогда остановил тебя, заметил раньше, чем твоя бабка, а мячик-то! Как бах! И нет мячика. А ты плакала потом, жалела мячик... А после...
― А после ты принес мне новый, ― прошептала я в ужасе. Картинки перед глазами. Море картинок. И я не могу остановить их ход. Как и не могу остановить непонятно откуда взявшиеся слезы. ― Мяч был с коричневой собачкой... Такой веселой, с хвостиком...
― Я подарил его тебе, чтобы ты не плакала. Не знаю, зачем... Мне просто очень хотелось, чтобы ты больше никогда не плакала. Никогда, никогда... ― И стал шептать бесконечно это слово, после чего усмехнулся с такой обжигающей горечью. ― Это, кстати, была моя единственная игрушка.
Пожалуйста, остановись. Я не хочу больше слушать твоих слов.
Герман лег на диван, а я так и сидела, тяжело дыша.
― Ты снова плачешь?
Он привстал, а я с трудом контролировала эту истерику, сжимая рот. Его глаза, кажется, сочувствовали мне.
― Я тоже в детстве много плакал. Плакал, плакал... Думал, что все это пройдет, а нет... не прошло... Плакал до тех пор, пока не понял, не разобрался... Не моя во всем была вина, а в человеке со странной одеждой. Он приходил к нам, и в тот день пришел... Я помню, как он посмотрел на меня. Словно я собачонка, от которой следовало бы избавиться. И я возненавидел его, потом соседского мальчишку, что вечно задирал меня, потом еще кого-то... Я плакал до тех пор, пока не научился ненавидеть. Ненависть и спасла меня.
Мы молчим. И я молю Господа Бога о том, чтобы Толик пришел обратно и остановил все это безумие, потому что я не могу говорить, не мог встать, я приговоренная, которая обязана сидеть и слушать.
― А? Мийка? Ну почему же ты молчишь? Почему не отвечаешь?
И Герман упал на диван обратно, засыпая вновь.
Я с трудом нащупала опору, с трудом вывалилась из этого дома прямо на улицу. И глотала снег, отчаянно глотала снег, потирала им свое лицо, до тех пор пока меня окончательно не вырвало.
Но виной был не алкоголь.
Виной было что-то запоздало упущенное и кем-то спрятанное в дебрях памяти.
***
Снова бы вернуться назад в то беззаботное время, когда меня ничего не волновало, когда родители оберегали от излишних проблем, и трагедией было просто не выйти на улицу, чтобы поиграть.
Шарф душит мою шею, раздражает кожу, которая противно чешется. Я словно в петле, которую осталось только закинуть на крючок, спрыгнуть с табуретки и... конец! Но это все было бы слишком просто, даже позорно. Я зареклась себе в том, что пробужу свою память, которую будто бы отняли. Почему я всего этого не помнила? Не может же детская память быть столь разборчивой.
― Тебе холодно дома? ― Удивилась Людмила, заметив мой шарф. Ох, если бы она только знала, что за ним скрывается... Я отвлеклась от бессмысленной телепередачи, которая была включена для того, чтобы не ощущать себя слишком одинокой.
― Нет. ― Покачала я головой, задумчиво рассматривая эту пожилую женщину через зеркало. На ее лице не было особых забот, только заметные морщины и сухая кожа. ― Горло просто немного болит...
Она начала советовать мне лекарства и рецепты, которые я проигнорировала. Дождавшись удобной минуты, я обернулась в ее сторону, разглядывая бабушку через плечо.
― В нашем детстве не случалось ничего ужасного?
Вопрос повис в воздухе. Людмила удивленно осмотрела меня с ног до головы, не понимая до конца вопроса.
― Если ты хочешь поговорить о своей маме, то...
― Нет-нет. ― Прервала я ее. Эта тема была закрыта для обсуждения. Мне все еще больно открывать эту рану. ― Кроме этого. Ничего особого?
― Разумеется, нет. Мы оберегали вас как могли. Все было хорошо.
― А ты помнишь, как меня однажды не сбила машина?
Женщина удивилась еще больше.
― Какая машина?
Неужели Еремеев соврал? Нет, я просто не верю в это. Он был не в том состоянии, чтобы скрывать что-то за своей маской. В ту ночь он был искренен. И мое сердце верило в это.
― А мальчика, который подарил мне мячик?
― Я совершенно тебя не понимаю! ― Всплеснула она руками, после чего потрогала мой лоб. ― Странно, жара нет...
А ведь Еремеев говорил, что бабушка видела его. Я отвернулась, не получив нужных мне ответов. Попыталась предельно сосредоточиться, закрыв глаза, но ничего не вышло. Никаких новых картинок.
Схватываю куртку и выбегаю на улицу с мыслью, что я обязательно должна проверить. Связка ключей в моих руках, я с трудом открываю дверь заледеневшего гаража, отодвигая ее, в сугробе, как можно дальше. Мы оставляли все ненужные вещи здесь, на полках. Я вглядываюсь в эту темень, ищу нужные коробки, одну из которых даже случайно роняю на пол. Руки мертвецки замерзли. Я роюсь дальше, ищу.
И почему я помню этот мяч? И этого мальчика-спартанца? Только сейчас становится понятно, что странные пятна на лице ― это синяки и ссадины. Какая же я была идиотка!
В самом дальнем углу я натыкаюсь на коробку, в которую впихнули наши со Стешей детские игрушки. Здесь и еще с советских времен юла, старый летучей змей, который мы сломали во время игры... Мне захотелось сесть и с ностальгией вспомнить все это, но холод заставлял действовать быстрее. Я выволокла и гирлянду, и тряпку, в конце концов натыкаясь на что-то резиновое... Сдутый мяч... С той самой веселой коричневой собачкой.
Значит, не соврал. Значит, мы связаны с ним куда больше, чем я думала раньше.
Человек со странной формой... Татуировка в виде солнца... Бил... Я не могу расшифровать его брошенные вскользь слова. Это кажется слишком сложным. Бью себя по лбу, пытаясь собраться с мыслями.
Ну же, вспоминай!
Оледеневшие пальцы сжимают сдутую резину, на глазах уже выступают слезы.
Нет! Я просто не могу сделать этого!
В конец разрывающийся телефон заставляет меня отвлечься на секунду.
― Почему игнорила несколько дней?! Я же жду от тебя сведений!
― У меня их нет, Соколов. Отвали. ― Раздраженно вскрикнула я прямо в трубку.
Хотя этот детский мяч говорил об обратном.
― Как нет? Ты же была у него дома!
― Это ничего мне не дало!
― Неужели не увидела никаких фотографий? Присутствие женских рук, например? Семейные вещи какие-нибудь?
― Нет. ― И я понимаю, что в доме Еремеева не было ни единой фотографии. Ни на стенах, ни на шкафах. Никакого присутствия семьи, словно это было убежище холостяка. Пнула раздраженно коробку с детскими игрушками, откуда вывалился старый глобус, что раскололся на две части. И тут я замерзла, заметив, как странная бумажка упала на пол.
Это была фотография. Старая. Потертая. Заляпанная чем-то противным.
И два человека на ней.
В военной форме. Совсем еще молодые, они глядели в камеру, дружественно обнимаясь на фоне березовой рощи. У первого фуражка скатилась чуть на бок, но он так широко улыбался, что был способен даже через фото заразить всех радостью. Я перевела взгляд на второго человека, удивляясь все больше и больше.
Мой отец.
Даже в молодости он был серьезным, деловым и никогда не улыбавшимся, что отражалось на его желтоватом лице. Однако с первым молодым парнем он выглядел более менее радостно.
Словно они были давними друзьями.
Перевернула карточку и с трудом прочитала написанное ровным почерком, но усердно заляпанное чем-то непонятным.
Близкому другу семьи, верному защитнику Родины и моему лучшему соратнику в боях на светлую память!
От Гегемона!
У отца, разумеется, было несколько сослуживцев, о которых он часто вспоминал, но о неком Гегемоне даже я ничего не слышала.
― Мия!! Ответь мне, черт возьми!
― Чего тебе, Соколов? ― На автомате произношу я, разглядывая на улице найденную фотографию.
― Вообще ничего?
― Дай мне пару дней, я сама тебе позвоню.
В отблеске солнца фотография смотрелась так же, только пятна просвечивались ярче. Чем же таким надпись старательно терли?
Набираю Ваню, все еще стоя на улице, чтобы быть точно уверенной в том, что наш разговор не подслушивают.
― У меня будет к тебе просьба. ― Тут же говорю я, не желая тянуть эту резинку никому ненужной вежливости.
― Слушаю. Я и так у тебя в долгу после того случая...
― Ты же химик. Можешь мне провести экспертизу?
В руках фотография, на которую медленно падает раздражающий снег. А в голове только одна мысль: "Кто такой Гегемон?"
Глупо верить в то, что это простая случайность, жизнь никогда не дает ничего лишнего. И я начинаю понимать, что все это как-то связано с Германом.
Усмехаюсь.
Куда же теперь без него в моей жизни.
***
В день, когда приехал отец, я пришла позже всех в школу и спряталась в одном из туалетов. Я глядела на белый потолок, думала о том, что же будет дальше. Все это напоминало военный трибунал, решение которого ― расстрел. Отец никогда мне не простит. В особенности того, что из-за меня его вырвали из командировки. Работа для него была выше семьи, и сейчас он, однозначно, раздражен.
Я не видела его, не встретила, но знала, что он прибудет в назначенное время. А что делает его дочь? Сидит на крышке унитаза, позорно разглядывая трескающийся потолок. Мне кажется, словно прошла целая вечность со дня опубликования фотографий, но на самом деле всего лишь две недели.
Все адские две недели я почему-то избегала Еремеева, сама того не осознавая. Специально выбирала полупустые коридоры, перемещалась как можно незаметнее, со спокойной душой игнорировала выпадки его шестерок, которые стали все больше и больше вызывать у меня презрение. А еще я ощутила собственное высокомерие. Я могла спокойно толкнуть какую-то малявку в коридоре, которая стояла на моем пути. Могла глядеть на то, как шестиклассника затащили в туалет восьмиклассники. И я чувствовала странную пустоту внутри. Ничего будто бы не осталось. Не было ни воинствующего призыва в сердце, не было желания защитить, не было чувства, словно я что-то кому-то обязана.
Еремеев был прав: нельзя быть добродеятельницей, зная, что тот же шестиклассник после со спокойной душой сожжет тебя на костре.
И это заставило задуматься. Замереть на месте от открывшейся истины.
А точно ли я делаю это все для того, чтобы защитить сестру?
Этот вопрос заставил меня вздрогнуть даже сейчас. Я чувствовала, как обманываю саму себя, но подобные мысли следовало затолкать куда подальше. Разумеется, ради сестры. На кой черт мне сдалось общение с Еремеевым?
Звонок. Мне пора выходить отсюда, но я все еще жду. Мне не хочется, чтобы меня видели сегодня. Вытянув ноги, я судорожно втягиваю воздух.
Богдан:
"Держись. Я с тобой"
Он с самого утра шлет мне смс-ки, но от них нет практически никакого толка. И они заставляют чувствовать меня вину, потому что я почти что перестала с ним общаться. Удивительно, как Богдан за короткое время стал вызывать эмоции раздражения и скуки. Или просто я раньше стеснялась этого признать, а сейчас, когда уже все достоинства были грубо затолкнуты в самую гущу души, стало на все плевать?
О черт, я слишком много думаю.
Поправив воротник белой рубашки, темные брюки и торчащие волосы, я попыталась улыбнуться самой себе в зеркало, но вышло слишком вымученно. Послала всех куда подальше и, наконец, вышла из туалета.
Я ворвалась в кабинет директора, в котором меня уже все ждали. Отец даже и не повернулся в мою сторону. Ноги будто бы подкосились, но я сжала кулаки и села на указанное мне место.
Странная ненависть забурлила во мне, когда я заметила надменное лицо отца. Он будто бы еще больше пожелтел, становясь более уродливым. Директор что-то говорит, но я настолько увлечена разглядыванием отца, что ничего не слышу. И почему я вдруг стала его ненавидеть? Мне захотелось накричать на него, потрясти за плечи, чтобы увидеть его истинные эмоции. Взбесило меня еще и то, что он появился в элитной гимназии прямо в своей парадной военной форме. Захотелось взвыть, потому что все знали, что именно мой отец военный. Решил покрасоваться перед всеми своими погонами? Затолкать бы их в его рот...
― Отвечай. ― Вдруг скомандовал он. Я вопросительно посмотрела на собравшийся комитет психологов и педагогов. Чертовы идиоты. Лучше бы разбирались с геноцидом в школе, чем копались в моей жизни.
― Мия, зачем вы опубликовали эти фотографии? ― Вдруг мягкий голос донесся за моей спиной. Я обернулась и увидела Архипову, которая, кажется, искренне переживала за меня. Тяжело сглотнув, я снова взяла себя в руки. Хватит быть во всем подчиняющейся мямлей.
― Неужели вы думаете, что это сделала я?
― А разве у вас есть враги?
Мне захотелось прямо расхохотаться в лицо наивному директору.
― О да. И благодаря этой су... ― Отец предостерегающе взглянул на меня. ― Благодаря этому врагу меня ненавидит больше половины школы. В том числе и учительский состав.
― Глупости! ― Залебезили тут же педагоги перед моим отцом. ― Мы крайне объективно оцениваем ситуацию! Никаких занижений самооценки. Мы же психологи! Прекрасно разбираемся в подростковой психике и искренне хотим тебе помочь...
И почему наружу вновь вырывается хохот?
― Помочь? Тогда почему же фотографии были удалены из сайта только через два дня, когда уже многие успели скачать их?
― По моему, вопросы здесь должны задавать мы. ― Сухо вставляет никому ненужные слова инспектор по делам ребенка.
― Дайте ей выговориться! ― Вступилась Архипова.
У меня страшно заболела голова. Я пожелала бы убежать отсюда, но все, кажется, только и начиналось. Я поняла, что сбежать не получится, когда в дверях появилась Людмила и Стеша. Их еще не хватало... Они присели у края, невпопад что-то говоря. И я просто отключилась, разглядывая фотографии бывших выпускников, что висела на стенах. Директор вскочил на ноги, будто бы собираясь произнести окончательный итог, как в кабинет вломилась местная учительница математики.
― Это просто возмутительно!! ― Заверещала она с порога, но тут же замолкла, заметив собравшихся. ― Ой, извините... Просто...
Директор устало протер глаза.
― Что произошло?
Математичка втолкнула в кабинет Еремеева, который лихо улыбался. Стеша заметно выпрямила спину, стараясь не смотреть на меня. Но Герману было плевать на ее присутствие, по бегающему взгляду я поняла, что он здесь ради меня. Стало несколько легче находится в этом театре абсурда.
― Еремеев такое творит в коридоре! Я вышла из класса, а он прямо перед моим носом протягивает мальчишке из пятого класса сигарету!! Это же просто немыслимо! Какой пример он подает?!
Мы ухмыльнулись друг другу ― сделал это специально, чтобы его привели к директору.
― Так, ладно... Оставьте его здесь, я разберусь... ― Математичка отпустила локоть хулигана и скоро вышла вон. Еремеев спокойно примостился у стены, разглядывая лица. Взгляд его задержался на моем отце.
...Человек со странной формой...
Первая ниточка была неожиданно поймана.
― Встает вопрос о нравственности Харитоновой Мии и ее исключении из школы. У нас престижная школа, мы не можем рисковать ее репутацией.
― Я надеюсь, что комитет школы помнит о том, что я установил прочные связи с военным училищем, отчего многие выпускники слишком уж легко поступают в него. Вы, надеюсь, помните это? ― Отец вставляет свое слово после долгого молчания. Видимо, это сильно действует на учителей, потому что они заметно нервно улыбаются.
Неужели мне больше ничего не будет грозить? Я уже готова была встать и выйти, как...
― Я трахаю Мию Харионову.
Директор буквально упал на свой стул, учителя задохнулись от возмущения, рюкзак Стеши выпал из ее рук с невыносимым грохотом, а моя голова закружилась.
И впервые отец позволил себе медленно развернуться назад, чтобы посмотреть на того, кто сказал это.
Ужас.
Меня охватил такой леденящий ужас, что я готова была вонзить нож в сердце Еремеева, только бы он замолчал.
― Что вы сказали, молодой человек?
― Я говорю, что я трахаю вашу старшую дочь.
Заткнись! Заткнись!! Господом Богом тебя прошу ― замолчи сейчас же!!!
― И всем вам должно быть плевать на то, с кем в постели ночует Мия. Всем вам должно быть просто срать на то, с кем она сосется. А знаете почему? Да потому что она уже совершеннолетняя! Она, мать вашу, взрослый человек! И если она трется об местного мажорика в раздевалке ― это ее дело. Если сует свой язык в мой рот ― это тоже только ее дело. Понятно? ― Повысив голос, он вещал ту правду, которую я, почему-то, боялась сказать всем им в лицо. Герман был куда свободнее меня.
― Еремеев... Что вы... Что вы говорите? ― Директор тут же ослабил свой дорогой галстук.
― О, хотите исключить ее? Да пожалуйста! Только ответьте: кто потом получит чертов красный аттестат из всего выпуска? ― Усмехнулся он едко.
― У нас есть Богдан Павлов... Второй отличник... Гордость школы... ― Попытались разрешить ситуацию учителя.
― Эта самая гордость свалит из этой школы сразу же после нее. ― Мгновенно возразил Герман, а после добавил слащаво. ― Они ж с Мией друзья. Поверьте, я знаю о чем говорю. Ваша школа окажется без золотых медалей, и как же вы это объясните спонсорам?
Отец медленно развернулся ко мне, ожидая моих слов. Но я не знала, что ответить. К счастью, меня "спасла" моя сестра.
― Какого хрена ты спишь с моей сестрой? ― Заверещала она истошно, кидаясь с кулаками на Германа, но Людмила удержала ее, крепко стиснув в объятиях.
Настала пора выступить и мне.
Я на дрожащих ногах встала, осторожно подходя к Еремееву, который продолжал сохранять привычное для него спокойствие и высокомерие.
― Я не собираюсь ни в чем перед вами оправдываться. ― Осторожно начала я. Каменное лицо отца сверлило меня. Я посмотрела с надеждой на Еремеева, чья рука легла на мою талию в знак поддержки. ― И... Герман прав. ― Втянула воздух, чувствуя его необычайно красивое имя на губах. ― Я буду делать то, что считаю нужным. Захочу ― пересплю со всеми старшеклассниками, захочу ― буду публиковать это. Вы не можете мне ничего возразить. Потому что это моя жизнь. Только моя жизнь! И не смейте в нее лезть!!
Стеша открыто застонала, пряча ладонями мокрое от слез лицо. Людмила попыталась ее успокоить, но та не поддавалась, в конечном счете выбежав из кабинета. Я последовала ее примеру, Герман шел за мной.
В коридоре было необычайно легко дышать, хоть я и чувствовала, как истерика постепенно захлестывала меня. Парочка людей, просто проходящих мимо, с интересом поглядели на нас.
― Мия. ― Вдруг позвал меня невыносимо ледяной голос отца, на который тело ответило тем, что чуть ли не рухнуло тут же. Еремеев успел поддержать меня, заставляя стоять на ногах. Я медленно обернулась, обнимая руками саму себя. ― Не хочешь извиниться передо мной? Сказать что-нибудь? Например то, что все это ложь и простой подростковый максимализм? Бунт? Отлично. Я увидел его, а теперь немедленно иди и извиняйся перед всеми!!
― Нет... ― Неожиданно для самой себя ответила я. ― Я сказала правду. И мне не за что извиняться. А тебе следует свалить отсюда обратно в родную казарму, где тебя так все "любят"! ― Голос повысился до небывалой ноты. ― Чего ты приехал сюда? Показать какой ты хороший и ответственный? Да пошел ты!! Ты не меня сюда защищать приехал, а собственную тушу! А еще... еще ты должен извиниться перед...
И удар.
Невыносимый удар прямо по щеке сухой и тяжелой рукой, которая даже не дрогнула.
А я дрогнула. Готова была отлететь, но Еремеев вновь не позволил.
― Что вы делаете?! ― Закричала Архипова, тут же укрывая меня своими объятиями.
Я не плакала. Будто бы разучилась на целое мгновение.
Еремеев отпустил меня к этой учительнице.
― Вы не имели права бить ребенка!!
― Это моя дочь!! И я имею право делать с ней все, что мне заблагорассудится. ― Отец вытянул руку, указывая пальцем на меня. Ордена дрожали на его груди.
Архипова гневно посмотрела на отца, еще минута ― и она уже ведет меня в свой класс, гладит по голове, что-то шепчет, пытаясь успокоить. Она просит, чтобы я не плакала. Но разве я плачу? Ничего не чувствую...
Возле двери я оборачиваюсь и вижу его.
Он кивнул мне, оставаясь примерно в тридцати метрах от меня.
И Герман всем этим дал понять мне одно: он никуда не уйдет.
***
Арт от @Aptigari к данной книге. Очень приятно!
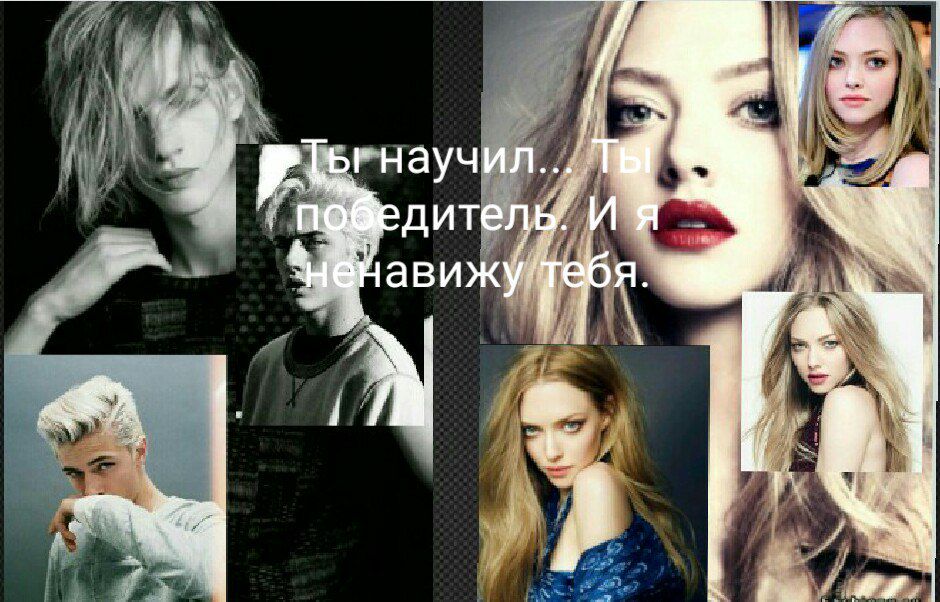
Арт от Насти Шульженко! Благодарю за ваш труд!
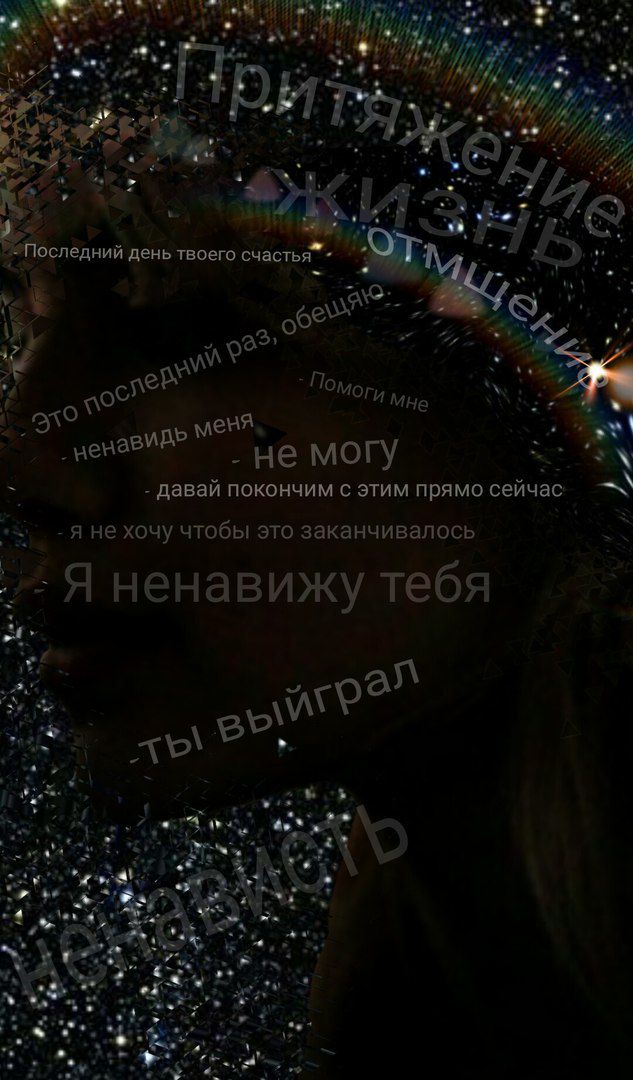
ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ? ПРЕДЛОЖИТЕ В КОММЕНТАХ ХОРОШИЙ ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ (Я ХОЧУ ЗАНЯТЬ СВОЕ ВРЕМЯ, А ФИЛЬМ ВЫБРАТЬ НЕ МОГУ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro