3 глава. «Безлунно»

Ливерий сидел на коленях старшего брата и теребил штанину. Тот скрестил ноги, а пальцами сковыривал шерсть и нитки с ковра. Оба брата ошивались в углу, подальше от остальных детей. Подходить к ним совсем не хотелось. Совсем не хотелось улыбаться, совсем не хотелось играть, совсем не хотелось смеяться. А именно так и вели себя те дети, и обоим братьям казалось это какой-то насмешкой и издевательством. Ни у кого здесь не было родителей, однако почему-то все вели себя так, будто это нормально.
Но в каком месте это нормально?
Ливерий покачал головой и поник, обхватывая колени старшего брата. Нет, они не понимали. Они не могли понять. Никто не мог понять.
Никто бы не смог понять.
Захар молча опустил подбородок на чëрную макушку. Младший боковым зрением углядел уставшую и печальную мину. Хотя нет, больше измученную. Несчастную.
Его брат так... устал. И его выдавало всё: от сгорбленного положения до слипающихся голубых глаз. Но это больше не была небесная синева — это кровавое безоблачное небо. Эти некогда спокойные и умиротворëнные глаза давно уже опухли и покрылись красной пеленой, а взгляд ощущался пустым и потерянным. Захар словно застрял где-то там, между прошлым и настоящим, и не мог оттуда выбраться (а хотел ли он?), и Ливерий пытался его «найти», но чем больше он старался, тем больше старший терялся ещё глубже в этой бесконечной тьме воспоминаний.
Мальчик вздохнул. Он бы тоже хотел потеряться в своей памяти. Тогда бы ему не пришлось сталкиваться с реальностью. Ливерий так хотел застрять в воспоминаниях, в нежных и ласковых руках матери, в сладком мороженом, в папиных наставлкниях и в звуке пианино.
«Наверное, там хорошо», — думал мальчик, пока Захар отстутствующим взглядом пялился на детей.
Наверное, там хорошо, если его старший брат не хотел оттуда уходить, из своей головы. Ливерий шумно выдохнул.
Дети всё ещё смеялись. Казалось, они строили какой-то город из кубиков. А ковёр был дорóгой, по которой проезжали маленькие игрушечные машинки. Какая-то девочка подняла над головой фигурку и что-то восторженно кричала — по всей видимости, это должен был быть какой-то супергерой, потому что другой мальчик корчил рожицы и тоже держал фигурку, пока остальные дети с вниманием следили за сюжетом.
Нет, они не поймут. Никогда.
Ливерий уткнулся в свою же грудь, чувствуя дрожь в теле.
— Чего грустим?
Мальчик поднял голову, а Захар заметно напрягся, сразу же выпрямляясь, а в заплаканных и усталых глазах появилась хоть какая-то ясность. Плечи старшего брата расправились, а руки обхватили тельце младшего, обнимая, словно защищал от кого-то.
Ливерий хотел спросить: «А почему вы не грустите?», но Захар уже сказал за него, твëрдо и раздражëнно:
— Не твоё дело.
Девочка фыркнула. Светлые блондинистые волосы спадали чуть ниже плеч, прямые и шелковистые, на лице красовались веснушки, а голубые глазки невинно хлопали. Вместо того, чтобы обидиться, она лишь хмыкнула и задрала курносый нос:
— Вы просто новенькие, — она уткнула руки в бока лëгкого зелëного платья. — Все новенькие в конце концов привыкают.
— Мы не новенькие, — таким же голосом сказал Захар, и мешки под глазами становились особенно заметны, когда он щурился на эту девочку.
Ливерий кивнул, чуть-чуть приподнимаясь вверх из своего положения, хотя старший не до конца выпускал его:
— Отец нас заберёт отсюда.
Девочка засмеялась, откидывая блондинистые волосы назад, хотя Ливерий не понял, что именно здесь было такого забавного. Разве он сказал что-то не то? Младший брат посмотрел на старшего в поисках ответа или объяснения, однако и у того было озадаченное выражение лица. Девочка, очевидно, заметила это недопонимание, и лишь произнесла:
— Смешные вы, конечно, — она протянула руку вперёд, несколько браслетов свисали с локтя. — Меня вот Кира зовут, а вас?
Сквозь тьму прорезалось весëлое мычание — кто-то что-то напевал. А с этим во мрак пришли и другие звуки — шкварчание, дребезжание посуды да шипение камфорок.
Кира глубоко-глубоко втянула в себя побольше воздуха и застонала, сжимая пальцами кожу на лице. Иметь ясность мыслей в голове было странно, непривычно и очень и очень больно. Спустя несколько лет она уже и отвыкла от того, как мог кипеть мозг. За столько лет приятная и тëплая дымка в голове стала неотъемлемой частью её самой. Без этого она ощущала себя так, как не ощущала уже давным-давно.
И это больно. О, это так больно.
Хотелось заплакать. Хотелось рыдать, лишь бы не ощущать это жжение в глазах.
Хотелось стиснуть зубы и просто шипеть. Хотелось раздербанить дëсна, лишь бы не слушать стук в висках.
Хотелось свернуться калачиком, как кот. Хотелось спрятаться от всего мира, лишь бы никто никогда не нашёл.
Хотелось кричать. Хотелось заглушить любой звук, лишь бы не думать, не слышать собственных мыслей.
Вместо всего этого Кира тупо уставилась в потолок. В серой штукатурке была дыра, из которой сыпались крошки. Из бездны свисали чëрные проводки, грубо вырванные и отрезанные. А тьма затягивала, и почему-то смутно на ум пришло сравнение в виде картинок из мультиков, где открывали межгалактический портал, и оттуда, из другого измерения, лезли щупальца.
«О чëм я вообще думаю?» — оцепенело пронеслось в голове у девушки, хотя вопрос должен был, наверняка, звучать так: «Почему я думаю?»
Почему? Для чего? Кому это вообще надо?
Зачем, если...
Кира вздрогнула. Тело пробрало, хотя оно было под пледом. Колючие ворсинки щекотали кожу, но это было наименьшей из проблем.
«Я сошла с ума», — убеждëнно решила Кира и закрыла глаза.
Её мог удивить тот факт, что она вообще пришла в себя после стольких... лет. Но больше её удивляли собственные чувства. Ей было хорошо тогда, и она злилась от того, что больше не была в том прекрасном забытье, хотя понимала, насколько это было неправильно. И всё же Кира тянулась к этим сетям простого счастья и легкомысленной радости, чтобы укутаться в них, как муха, попавшая в паутине.
И всё равно, что паук мог протянуть свои тонкие острые лапы, совсем чуть-чуть разрезать кокон и проглотить, даже не разжëвывая. Всё равно, ведь было хорошо и приятно.
Легко. Просто. Красиво. Замечательно.
Замечательно ходить в золотых побрякушках. Замечательно ощущать холодный ветерок в голове. Замечательно подпрыгивать от приятных покалываний в коже. Замечательно наклоняться к рукам в перчатках и слышать похвалу.
Замечательно не вспоминать и не думать о плохом.
Замечательно купаться в этом бескрайнем океане удовольствий и такого простого плотского счастья.
И это было так замечательно, что Кира ужасалась самой себе. Ужасалась тому, как легко она позволила себе стать нежным котëнком, за которым ухаживали и лелеяли, пока за ненадобностью не выкинули.
«Ты им не нужна, понимаешь? Поиграют и выкинут», — сказал ей тогда Хар в последнюю встречу, но уговаривать и останавливать не стал.
Он никогда никого не останавливал.
И, о, он всегда был прав.
Кира судорожно вздохнула. Она закрыла веснушчатое лицо руками, но чувствовала, как дрожали пальцы. Всё ещё было больно, но теперь как-то вдвойне.
Одна из её частей действительно хотела вернуться к тем, кто выставил её, котëнка, на улицу, и Кира презирала эту часть. Она хотела подавить её и игнорировать, но факт всегда оставался фактом, не так ли? Как бы сильно ты его не отрицал.
Девушка услышала щелчок, и огонь перестал шипеть, а масляные пузырьки — лопаться. Затем услышала приближающиеся шаги. Кира неохотно раскрыла лицо, хотя чувствовала себя убитой и физически, и морально.
Господи, как же плохо.
— Я не понимаю: ты настолько впечатлительная или просто дура? — Глаф вздëрнула плечами, облокотившись на стойку, отделявшую гостиную с кухней, а с домашней одежды сняла красный фартук, небрежно бросив его в сторону, как безделушку. — Ты уже второй раз без сознания.
«Наверное, всë-таки дура», — печально заключила Кира, но ничего не сказала — только тихо вздохнула и опустила голубые глаза на плед.
Глаф фыркнула, постучала пальцем по столешнице и вернулась на кухню.
Да, наверное, так было лучше. Кира не сильно хотела разговаривать. Как и вспоминать что-либо. Просто хотелось скрестить руки на груди и умереть, если быть честной.
Или снова оказаться в забытье...
Девушка мотнула головой, розовые волосылезли в глаза. Отдалëнно она заметила, что золотых прядок больше не было. Наверное, дождь смыл. Хотя от этого не легче.
Тем не менее Глаф вернулась с подносом в руке, на котором дымились две кружки. По запаху кофе. Кира не очень его любила, но, вероятно, это лучше — бодрость наступит пораньше, чем от чая.
Вместо тëмной жидкости с блëкло-коричневой пенкой было тëмно-глубокое золото. Кира жила в этой реальности уже очень и очень долго, но почему-то было тоскливо видеть это. Это было неправильно.
Всё было таким неправильным. Сломанным.
Глаф сверкнула чëрными глазами, поправила короткую стрижку, небрежно вытерла локтëм шмыгающий толстый нос и плюхнулась на диван, чуть не задавив ноги Киры. Девушка расправила плечи и хлопнула по коленям, а потом взглянула на давнюю знакомую.
— Нас ждёт очень долгий разговор, — Глаф с нахмуренными бровями улыбнулась и язвительно добавила, как оскорбление, — подруга.

На душе было мерзко. Очень и очень мерзко.
Руки тряслись, а тело сотрясало судорожное дыхание. Так хотелось дышать, так хотелось рвать воздух ртом и глоткой. Так хотелось, чтобы ничего не сжимало грудину.
Так хотелось, чтобы мамины руки сжали её в объятиях. Так хотелось, чтобы её пальцы прошли сквозь волосы и заплели тугую косичку. Так хотелось учуять запах крепкого кофе, что мама всегда заваривала по утрам. Так хотелось снова взглянуть в эти по-доброму строгие чёрные глаза.
Так хотелось уйти отсюда.
Здесь было плохо. Здесь Глафира ощущала себя как в клетке. Её никто не обнимал, разве что слегка сдавливали плечи. Здесь никто не завязывал именно те тугие косички. И сюда никто не носил попить кофе, чтобы прочувствовать аромат. Здесь никто так строго не смотрел, во взглядах была лишь эта противная жалость (жалость... как будто она может сделать кому-то легче!).
Это место не ощущалось ни знакомым, ни родным и уж тем более не могла его Глафира обозвать «домом», сколько бы раз воспитательницы не повторяли это слово.
Её дом не такой.
«Поначалу все такие, — сказала Любовь Викторовна, одна из воспитательниц, — а потом все привыкают».
Глафира не хотела привыкать. Привыкание было бы своеобразной изменой, не так ли? Она не могла предать всё то, что было так дорого сердцу. Не могла и не хотела.
Любовь Викторовна также дала ей новую одежду и сделала ей хвостик. Глафира ненавидела этот прикид всей душой: она бы разорвала детский комбинезон с кофтой в полосочку на тысячи мелких кусочков, а потом сожгла бы. И волосы состригла бы.
Почему они не могли дать ей чёрное школьное платье с белым воротничком? Почему ей не могли заплести две косички? Почему они не могли пить кофе в общей комнате с детьми? Неужели это так сложно?
Неужели они действительно хотели, чтобы Глафира полюбила это место, когда в нём не было ничего от её дома?
Девочка насмешливо фыркнула, сдувая выбившуюся волосинку в сторону.
Маме там, после смерти, наверное, очень скучно. Глафира бы с радостью бы составила ей компанию, но ей не дали. Неужели они не понимали, как ей там будет одиноко совсем одной? Маме нужен был хоть какой-то собеседник!
Глафира закрыла чёрные глаза и уткнулась носом в колени. Хотелось завыть от бессилия и несправедливости.
Хотя уголок, в котором она расположилась, давал ей некоторого рода утешение. Заземлял. Здесь было тише и не так рьяно, как в центре комнаты. И это словно укутывало в мягком одеяле: проблемы никуда не девались, но зато было как-то легче и спокойнее.
Вот так и сидела Глафира в углу комнаты, спрятав нос и лицо и обхватив руками ноги.
Ну, сидела.
В настоящее время ей не давал покоя мальчик, постоянно повторяющий «Девочка-девочка-девочка!» Глафира игнорировала его, но всему был предел. Отвечать и проявлять хоть какую-то реакцию ей не особенно сильно хотелось да и сил, казалось, не много-то было на тот момент, но спустя некоторое время и точно тогда, когда он начал трясти её за плечи, она подскочила с пола и оттолкнула мальчика, стукнув по животу.
Тот от неожиданности и вскрикнул, и упал на спину. Глафира гневно выдохнула и могла поклясться, что у неё сейчас пар шёл из ноздрей, как у быков из мультиков. Только в отличие от них стояла неподвижно, хотя кулаки, крепко-накрепко сжатые, аж болели от приложенной в них силы. Девочка стояла ровно и прямо в то время как мальчик на ладонях приподнимался.
Мальчик был лупоглазым, и это очень и очень сильно было заметно. Особенно когда он так растерянно и замедленно моргал. Тем не менее мальчик не выглядел напуганным. Больше удивлённым. И любопытным.
Это ещё больше раззадорило Глафира. Обычно дети боялись и убегали, и, наконец, оставляли её в покое. А этот выглядел спокойным, хотя не должен был быть таким априори: он даже не был её ровесником, он был на несколько лет младше её и в принципе выглядел хилым.
Что с ним, блин, не так?
Мальчик не встал, но сел в прямое положение. Почесал растрёпанные каштановые волосы и своими маленькими ладошками притронулся к коленным чашечкам, затем поразмыслил и приложил палец к губам:
— Никому не скажу!
Девочка смутилась настолько, что аж кулаки разжались, а раздражение испарилось как вода в горячей кастрюле.
— Чего? — Глафира прищурилась и напряжённо наклонилась к мальчику. — Чё тебе вообще от меня надо?
Или мальчик был до тошноты наивен, что в случае чего его не тронут, или он настолько глуп, что в принципе не воспринимал ничего всерьёз. Глафире, может, и хотелось спросить, чего это он такой мелкий и смелый, да не стала, потому что тот уже взволнованно задыхался, объясняя:
— Ты была грустной и не отвечала! Хотел уже позвать воспитательницу, но теперь не буду, а то наругает.
А, так вот он о какой тайне говорил. Не то чтобы в этом было что-то очень страшное. Наверное, так же, как поход к директору. Это не впервой ей.
Хотя ей должно было быть безразлично, эта мысль навела на тоску. Глафира свято клялась маме, что больше не будет никаких вспышек агрессии, и что в итоге? Она даже не могла исполнить какое-то обещание, как вообще тогда могла идти речь о воссоединении?
Вина защемила сердце и вонзилась клыками в глаза. Совсем легонечко притронулась к склере, чуть-чуть царапнула её, как иголкой по бумаге, а потом погружалась всё глубже, глубже, глубже и глубже. Глубже, пока не задела какой-то нерв. Именно тогда клыки сделали укус, разрывая всё на мелкие кусочки, которые потом разжевали, сделали ещё меньше и проглотили, заставив их бесследно исчезнуть.
И, хотя должны были течь кровавые слёзы, текли самые обыкновенные — солёные и горячие.
Глафира вытерла их локтём, делая вид, что это была пятиминутная слабость, пусть вина и продолжала колоть чёрные глаза.
— Извини, — судорожно выдала она, подавая мальчику руку, голос её трещал по швам, а тело дрожало.
Мальчик легонечко улыбнулся, и удивление сменилось... сочувствием?
— Моему брату тоже грустно, — сказал он, поднимаясь на ноги. — И мне тоже, — подошёл поближе к девочке и обнял тихо и робко.
Глафира изумлённо выдохнула, но присела на корточки и притянула мальчика к себе. Там, в середине комнаты, уже никого не было. Воспитателей тоже. Наверное, ушли на обед, а ни Глафира, ни мальчик не обратили внимания на обычно такое громогласное «обед!»
На душе всё ещё было тяжело. Интересно, будет ли когда-нибудь легче?
— Глаша.
— Лива.
Они заперты.
Они не смогут отсюда выбраться в ближайшее время.
Если это ливень, они не смогут выбраться в ближайшие два часа. Они застряли здесь.
Возможно, на очень и очень долгое время.
Внутри всё кипело адским пламенем гнева. Раздражения.
— Лив.
К чёрту этот магазин. К чёрту эту вылазку. К чёрту этот дождь. К чёрту крабов. К чёрту, к чёрту, чёрту, к чёрту, к чёрту.
К чёрту.
— Я... — глубокий долгий вдох, — спокоен, — нет, совсем нет. — Я спокоен.
— Ты уверен?
Нет. Руки аж чесались от злобы. И ноги тоже. И тело дрожало от раздражения. И в принципе всё было неправильным, не на том месте, не в нужном порядке, не в верной последовательности.
Аж до мурашек пробирало.
Лив всегда восхищался Харом. Брат был для него примером для подражания: он был стойким человеком. Он мог казаться холодным, но это вынужденная мера.
Лив сам был свидетелем, как Хар с каждым днём становился всё более и более закрытым. Он не отдалялся в привычном смысле: он всегда проводил столько же времени с младшим братом и друзьями. Всегда был рядом и всегда поддерживал.
Просто с каждым разом это всё происходило более и более отстранённо, оцепенело и замедленно. Хар делал всё с каким-то невероятным усилием, как будто на самом деле не хотел ничего делать. Он выглядел так, как будто всегда хотел что-то сказать, но намеренно заставлял себя замолкать. И каждый раз, когда его спрашивали, как он себя чувствовал, всегда отвечал, что лучше не бывает.
Но Лив знал лучше. От него не ускользнули тяжёлые веки и мешки под глазами. Не ускользнули некогда яркие, как огонь, небесные радужки, что со временем затухали так, словно в них и не было никогда жизни. Не ускользнуло усталое вымученное выражение лица. Не ускользнула сгорбленная фигура. Не ускользнули запах сигарет и прожённые дыры в диване. Не ускользнули походы на загородное кладбище. Не ускользнули опухшие глаза и абсолютно пустой взгляд в пространство. Не ускользнули румяные щёки.
Хар не отдалялся, но всё больше и больше закрывался. Было потрясающе, что он мог сдержать бурю эмоций внутри себя, но было больно видеть, как он страдал от невозможности нормально разрыдаться, или разозлиться, или испугаться.
У Лива складывалось ощущение, что его брат именно тонет. Возможно, в скорби, а, возможно, в каких-то других мыслях, о которых младший не в курсе. И его сознание просто медленно погружалось на дно. Тихо и безмолвно, без единой попытки сопротивляться.
Лив не хотел думать о том, что будет, если у Хара наконец закончится воздух, а из его рта вылетят последние пузырьки.
— Это просто... — пробормотал тихо шатен, закусывая губу, — несправедливо, — и взмахнул рукой в сторону заколоченного досками окна, из которого места проглядывался уже редеющий золотом Анкт-бург, а на стекле оставались капли дождя.
Хар утешительно похлопал брата по плечу. Он задумчиво поднял голову кверху, светлые длинные волосы откинулись в сторону.
— Жизнь вообще не справедлива, — светло-голубые глаза печально блеснули, но без толики раздражения или укора. — Главное — не разводи сопли по этому поводу.
Капли дождя барабанили по стеклу. Лив закрыл глаза и вздохнул. Глубоко-глубоко.
Да, пожалуй, брат прав. Нечего злиться, когда это от тебя не зависит. Просто, наверное, обидно. Они были готовы к этому, но не рассчитывали на ночёвку.
Ещё больше, по правде говоря, печалила мысль о Глаф, очевидно, беспокоющейся за них.
И Ливу снова захотелось рвать и метать. Его душевное спокойствие продлилось не так долго, как он надеялся.
Хар вынул пачку сигарет и чиркнул одной из них о коробок. Магазин заполнил запах табака, сладко-терпкий. Блондин небрежно выгнулся и сложил руки в карманы, а с конца бумажной трубочки выходил золотой светящийся дымок.
— Как ты вообще всё это держишь в себе?
На вопрос Лива Хар пожал плечами, его всегда холодное лицо до сих пор оставалось бесстрастным за исключением едва заметных эмоций:
— Как-то.

Любовь Дмитриевна, их воспитательница, была по-своему доброй женщиной. Захар не был уверен, что бы именно было, стоя над ними кто-то другой, но он предполагал, что далеко не всем дозволялось то, что дозволялось их группе. Например, Ливерия хотели отправить к малышам, но его оставили вместе со старшим братом.
Захар даже не совсем понял, что тогда было. Он помнил, что цеплялся за младшего брата так сильно, что Ливерий отчаянно взвизгивал «ты делаешь мне больно!». Помнил, что кричал да так громко, что горло болело. Помнил роковые слова какой-то женщины: «А когда вас отправят в разные семьи, ты будешь также истерить?» Помнил, что другая женщина убегала в медпункт, потому что он яро кусал её за ладонь до этого. Помнил горячие слёзы на уже опухшей щеке. Помнил детские ручки, обвивающие его шею и тихий сопливый голос: «я не хочу».
Но это всё обрывки и кусочки, несвязные детали. Полных и цельных воспоминаний у него не было. В один момент Захар прижимал к себе Ливерия, не желая его хоть когда-либо выпускать, а в другой — лежал на койке, и рядом Любовь Дмитриевна гладила его лоб, нашёптывая ему: «не разлучим мы вас, не плачь». И не разлучили.
У Захара вообще в последнее время была проблема с концентрацией внимания. Он будто выпадал из реальности на неопределённый промежуток времени, а потом возвращался. Отчасти это даже пугало, но Любовь Дмитриевна сказала, что это нормально в его ситуации.
«Ситуации»...
Ха. Смешно.
Как будто отец не придёт за ними. Ни у кого просто нет средств связи с ним, но как только он их найдёт, он обязательно их вытащит. И заберёт отсюда. Вернёт домой, где мама будет печь шарлотку. И всё вернётся на круги своя. Как будто и не было этой недели.
Тем не менее с каждым днём его уверенность угасала, а в голове звучала смеющаяся над его словами Кира.
Она просто не понимает. Никто не понимает. Отец придёт за ними. Если не завтра, то послезавтра.
Обязательно. Как иначе? Не бросит же он их.
Захар улыбнулся самому себе, тряхнув головой.
Любовь Дмитриевна включала им мультики по воскресеньям. Она приносила телевизор в гостиную и включала им «карусель» или «дисней». В остальные дни телевизор, старенький такой, как большая коробка из-под обуви, находился в её кабинете. Любовь Дмитриевна редко его включала для себя, да и шумел он до жути громко, когда он пытался воссоздать изображение со звуком и поймать сигнал от маленькой антенны. Но когда она действительно что-то смотрела, чаще всего это были новости.
Захар не был уверен, чего именно он ожидал, каждый раз незаметно прошмыгивая в коридор, смотря и слушая через защёлку незаинтересованного ведущего, но уходил он разочарованным.
Глафира, с которой его брат познакомил его не так давно, уже не раз говорила ему, что до добра его походы к кабинету не доведут. Любовь Дмитриевна могла быть доброй, но и у неё терпение где-то могло кончаться — он был согласен с этим. Хотя, безусловно, это было странно слышать от такой девчонки, как Глафира (о, как Захар хотел её придушить, когда услышал от брата о произошедшем, но не стал по его же просьбе). Тем не менее в последнее время она вела себя... сдержанно и мягко, так что Захар не жаловался на хорошие перемены.
Любовь Дмитриевна, сжимая в руках фиолетовую кружку с выходящим из неё дымком, облокачивалась на стул, а телевизор был повёрнут совсем слегка вбок. От этого картинка на экране в глазах Захара размывалась, но были видны какие-то очертания. А из-за того, что он стоял за дверью, становилось видно ещё меньше. Зато хорошо был слышен скучающий и фальшиво заинтересованный голос ведущего.
Нет, до добра это точно не доведёт. Сейчас должен быть тихий час, и он сам должен спать, однако вместо этого каждую ночь тихонько спрыгивает с кровати и идёт в этот злосчастный коридор. Когда-нибудь его поймают, Захар в этом уверен.
Ну, если он не найдет то, что ищет раньше. А это сложно, когда и сам мальчик не мог понять, зачем он это делает? Любопытство? Желание узнать, что происходит во внешнем мире вне детского сада?
Да нет, тут что-то другое. Но что?
Кружка издала стук об рабочий стол, заваленный документами, что привлекло внимание мальчика к словам из телевизора.
—... Прошло две недели после инцидента на Лиговском проспекте...
Инцидента? Какого инцидента?
Мальчик прищурил голубые глаза, силясь разглядеть через щёлку показываемое на экране видео.
—... Как было зафиксировано, один из светофоров загорелся зелёным прежде чем машины успели подъехать к зебре. Предположительно, водители не заметили пешеходов, а когда увидели, не успели сбавить скорость...
Это звучало как описание того дня. И это заставило Захара напрячься. Он облокотился на стену, вытирая внезапно вспотевший лоб.
—... Пострадавшие пропали с места происшествия. Найти их удалось лишь через несколько дней на заброшенном заводе. Что с ними произошло неизвестно и по сей день — пострадавшие отказываются говорить. К тому же, найдены были и погибшие...
Погибшие.
Погибшие.
Это слово резало как нож. От него дурнело, и ноги шатались. Захар сделал всё, чтобы подавить всхлипы и дрожь, когда хотелось просто упасть на колени и кричать о несправедливости.
Тем не менее было почему-то не так больно. Возможно, он уже знал это и только сейчас услышал подтверждение. Сейчас оставалось только смириться. Что было самым сложным.
Дом и запах маминой шарлотки казались теперь такими нереалистичными.
На самом деле и от этих мыслей его тошнило.
Да, приходить сюда было плохой идеей.
Из чашек шёл пар, точнее, от жидкости, всё ещё тёмной, как помнила Глаф, сохранив образ нормального кофе в памяти, но она совсем едва поблёскивала, переливалась странным рыжеватым оттенком. Раньше девушка злилась бы на подобное, как в первые дни, когда самые обыкновенные продукты заменили на эту «искуственную хрень», как она сама выражалась, вид которой вызывал тошноту от воспоминаний о том, как на самом деле это должно выглядеть.
Но это было в прошлом. Глаф несколько подпривыкла к такому раскладу вещей. Обидно, конечно, грустно и неприятно, но бессмысленно драться со злом, когда его больше, когда оно сильнее в разы, когда какие бы то ни было действия ни на что не влияют. Признать это было сложно, и братья Ос смирились с этой истиной гораздо раньше, чем Глаф. Ей потребовалось гораздо больше времени, гораздо больше царапин и синяков, гораздо больше криков, стонов и слёз, чтобы понять, что выживание важнее, чем бессмысленная и ни к чему не приводящая революция.
И если выживание заключалось в том, чтобы пользоваться такими испорченными продуктами (книгами, едой, водой, шампунями, сигаретами), то пусть будет так. Иного, в любом случае, не дано.
Кира выглядела потерянной. Она словно впервые за это время осознала происходящее и совсем не понимала теперь, что делать с подобной информации. Глаф её не торопила. Пусть подумает. Хорошо хоть мозги вправились — уже замечательно.
Шелкова теребила подол розового платья как-то бездумно. Она явно была в другом месте сейчас. Её вид можно было бы обозвать серьёзным, но у Глаф язык не поворачивался это сделать. «Кошка, которую пнули ногой под дождь» — вот что более подходило. Розовые волосы, хотя и подсохли, оставались мокрыми, а некогда золотые прореди среди них и вовсе смылись, как и краска с домов. Казавшееся в предыдущую встречу воздушное платье смотрелось грязно и бедновато: то тут, то там невысохшие капли и мятая ткань. Туфли на каблуках были обляпаны дорожной грязью, а макияж и вовсе расплылся.
Так и получалось, что сравнивать Киру можно было лишь с кошкой. Будучи сухой, она была пушистым и прекрасным очарованием, а вот стоило помыть — костлявая, облезшая.
Глаф закатила кверху чёрные глаза, вздохнула и поднесла кружку с кофе к губам. Горьковатый привкус остался на языке, но это, наверное, уже не от напитка, а от внезапно заговорившей Киры:
— Ты изменилась.
Глаф чуть не захлебнулась, но вовремя сглотнула и осторожно опустила кружку на столик. Кира же нахмурила свои тоненькие бровки и собиралась подтянуть к себе худые ножки, но брюнетка строго цыкнула на неё:
— Никаких туфлей на моём диване.
Оно и понятно. Они выглядели очень грязно и поношено после дождя. Да и диван у них не такой уж и новый, а в некоторых местах и вовсе прожённые дыры от сигарет Хара — не портить же его больше, чем он уже есть.
Кира передёрнулась, а ноги зависли в воздухе от неожиданности, пока медленно не отпустились на пол.
— Прости, — стеснительно прошептала Шелкова, поспешно наклоняясь и снимая розовые туфли с золотым облезшим бантиком на них. — Я... — она скинула обувь, аккуратно поставила её около зелёного дивана, и показались телесного цвета носочки, — хотела сказать, что раньше бы ты мне врезала по лицу, — на лице её невольно скользнула лёгкая улыбка, когда Кира обняла свои колени, — но теперь уже не так уверена. По-моему, ты всё такая же.
Глаф криво улыбнулась. Странно, но начало разговора было хорошее, хотя Плет точно бы не согласилась с последним. У неё всё ещё были проблемы, но она не была такой же вспыльчивой, как раньше. Ей потребовалось много самоконтроля, чтобы прийти к этому почти что спокойному состоянюю. А ещё больше времени ей потребовалось, чтобы признать, что вспышки гнева приносили ей больше вреда, чем пользы. Выпускать пар было хорошо, и ощущалось после этого на душе хорошо, но последствия частенько были хуже, чем само неприятное чувство раздражения.
В конце концов, даже какой-то ненависти она не испытывала к Кире. Наверное, должна была, ведь та была предательницей. Но почему-то не злилась. Возможно, прошло достаточно времени, чтобы это чувство прошло. Возможно, влиял и тот факт, что Кира теперь была в своём уме, а не той гламурной дурочкой, какой она предстала несколько дней назад. Общаться с ней было приятнее, когда Глаф понимала, что вот она — истинная Кира, а не эта проститутка у Краба Шеса.
— Ты тоже изменилась, — в конце концов, проговорила брюнетка, постукивая длинным пальцем по коленной чашечке. — Что с тобой произошло, когда мы ушли?
Кира потупила голубые глаза, поджимая губы.
— Это... долгая история, — но говорила так, словно не долгая, а, скорее, неохотная и нелюбимая.
Глаф усмехнулась и откинулась на зелёную спинку дивана, скрестила руки на груди и гордо объявила:
— Не волнуйся, у нас с тобой вся ночь впереди.
Кира шумно выдохнула и пригладила смятое розовое платье, видимо, поняв, что ей не отделаться.
— Я, понимаешь, просто сама многое не помню...

В размышлении Кира зажевала карандаш. Клацнула зубами, сдирая грифель, а чёрные крошки окрашивали в серый нёбу, язык, дёсна и губы. Казалось, она даже не заметила этого, продолжая стучать зубами.
Ливерий воодушевился и начал сам грызть свой карандаш, широко улыбаясь и явно гордясь тем, что он повторял и за кем повторял.
Захар нервно улыбнулся:
— Боже мой... Теперь их двое.
Глафира скрестила руки на груди и вскинула бровь:
— Да неужели?
Кира внезапно вытащила карандаш изо рта, удивлённо моргнула, принялась поспешно вытирать всё локтём и отхаркнула грифельные крошки.
— Очнулась, да?
— Не язви, — Кира махнула головой, треся светлым хвостиком.
Глафира показала язык, а Захар стукнул себя по лбу. Он оглянулся на младшего брата, измазанного в серо-чёрный цвет. Ну и грязнуля! Совсем не меняется. Захар скривился, прежде чем вздохнуть:
— Пойду попрошу салфетки.
Кира кивнула, молча смотря в сторону уходящего друга. И минуты не прошло, как растрёпанная желтоватая макушка исчезла в темноте коридора. Девочка сидела на мягком колючем кофре, склоняясь над кипой бумаг, что они разложили чуть ли не на всю комнату. Пара ребят из их группы подходили и спрашивали, что это, но все четверо единогласно отвечали, что это их не касалось.
Не касалось это и Киры, если уж на то пошло, но тут кое-что произошло недавно, что взволновало всех.
Сначала Кира просто отметила, что странно, что братья Осинковы явились в детский дом примерно в одно и то же время с Плетченко. Им это совпадение тоже показалось необычным, а потом выяснилось, что все трое оказались в одной и той же аварии.
Отсюда — кучка бумажек и попытка разобраться.
Что-то тут не сходилось всё-таки.
Кира вздохнула и прочертила линию. Она посмотрела на подругу:
— Ещё раз: ты была в машине.
Глафира медленно легла на живот и под бородок подложила кулаки:
— Ага.
Её чёрные волосы были распущены и лезли ей в глаза, из-за чего их постоянно приходилось причёсывать за уши или сдувать. Ливерий с любопытством подполз к ней, проводя своими маленькими ладошками по её голове:
— Сделать тебе косички? Я маме постоянно делал.
Глафира презрительно оттолкнула мальчика и буркнула:
— Сам себе делай свои косички.
Ливерий лишь пожал плечами. Ещё несколько волосков упало на большие чёрные глаза, из-за чего Глафира аж зашипела раздражённо.
— Мешает же? — Кира оторвала взгляд от кучи бумажек со стрелками и каракулями.
— Я просто в следующий раз попрошу их отстричь. Не хочу ни хвостики, ни косички, бесит.
Тем временем вернулся Захар с влажной салфеткой в руке. Ливерий попытался сбежать, отползая, но старший брат схватил его за челюсть, удерживая на месте.
— Не-е-е-ет! — многострадально и драматично кричал младший.
— Да не дёргайся ты, дурашка, — Захар принялся водить салфеткой по губам брата, пока тот вертел головой из стороны в сторону, мыча в сопротивлении. — Господи, какой же ты сложный! Тебе нравится быть грязным или что?
Ливерий снова что-то промычал, промямлил, пробормотал, но никто ничего не понял.
Кира улыбнулась и снова взглянула на бумаги. Условно их можно было разделить на три части: Осинковы, Плетченко и общее. По сути своей это была схема, начинавшаяся с двух сторон, пока стрелки не соединялись в одну толстую. Над каждой из них было криво подписано событие, для более ясного понимания ситуации.
Невольно Кира снова закусила кончик карандаша и повернулась к борющимся братьям:
— А вы переходили дорогу, и в вас врезалась машина.
— Ага, — прокричал Ливерий, вырвавшись из плена старшего брата, но уже было поздно: весь грифель с губ оказался на салфетках.
— Да, — выдохнул Захар, позволяя себе расслабиться, и смял всё в шарик.
Глафира тревожно молчала. Думала о том, о чём думала и Кира. Девочка не смотрела ни на кого и закусила кулак.
Это было ужасно, но если не скажет Кира, то та тем более не проронит ни слова.
— Тогда в вас врезалась машина Плетченко.
Глафира зажмурила глаза. То ли не хотела смотреть на лица друзей, то ли хотела заплакать и пыталась сдержаться, как обычно. Кира уже пожалела, что сказала об этом. Возможно, стоило....
— Нет, — твёрдо заявил Захар. — Я же говорил, что, — поднялся с пола и принялся отряхивать брюки, — видел новости: светофор замкнуло.
Кира снова обратилась к схеме. Стрелочка про это действительно там была, но...
— Это всё равно была мамина машина, — прохрипела Глафира, и теперь было очевидно, что она плакала.
Она всё ещё не открывала глаза. Чёрные кудрявые волосы лезли во все щели: в нос, в губы, в уши. Девочка уткнулась в ковёр и хлюпала соплями, время от времени, вытирая их локтями.
Ливерий сразу же хотел подползти, но Захар уже был тут как тут: положил руку на спину, погладил по голове.
— То, что ты её отвлекла от дороги, не имеет никакого отношения к тому, что светофор сломался.
Глафира лишь невнятно взвыла в ковёр. Ногтями-когтями царапала ковролин. И лила туда тонну соплей.
И теперь ещё больше детей странно смотрели на них.
Кира несколько оцепенела и просто зависла, как телевизионная программа с плохой связью в то время как Ливерий поспешно начал собирать листки и рвать их.
Кира подскочила и схватила его за руки:
— Что ты делаешь?!
Ливерий показал пальцем на старшего брата:
— От этого только хуже.
Кира взглянула на Захара. Он пытался утешить подругу, но вместо этого сам сопел носом и стирал рукавом слёзы. Блондинистые волосы сразу же взмокли, хотя не было ни пота, ни дождя. Лицо покраснело. Зубы стучали, а губы кровоточили.
Кира просто смотрела, не зная ни как утешить, ни что сказать, ни как поступить.
Ливерий молча собрал все листы, разорвал их в клочки и отнёс к мусорному ведру. Кира не остановливала его.
Возможно, он прав.
Никому не стало от этого совпадения легче. Только хуже.
Кира утробно заныла, руками оттягивая хвостик на голове.
Это будет непросто.
Хар хмыкнул. Капли тарабанили по подоконнику. Напоминало пианино. Даже ноты угадывались, а в голове представала картина клавиш и стучащих по ним пальцев. Быстро так, но звонко. Звучно, выразительно.
Его учитель по музыки, вечно недовольный, ворчливый старик, однажды, когда у него было хорошее настроение, что было редкостью, сказал: «Самый лучший музыкант — природа».
Тогда была осень, дул ветер, шуршали листья, завывали ветви. А ещё тогда голубь врезался в окно. Хар перепугался и чуть со стула не упал, а старик залился хриплым хохотом. Говорил, что никогда не похвалит мальчика, потому что его бренчание по клавишам никогда не сравниться с таким естественным грохотом, что сделала птица. Или с завыванием деревьев. Или с шёпотом листьев.
Хар злился на него всегда за это, а сейчас хотел бы, что бы этот старик опять начал ворчать, что это не те ноты, что пальцы у него кривые, что он ломал дорогущий инструмент. Интересно, жив ли он? Или как все люди стал внезапно счастливым, одевшись в золото?
Забавно. Хар никогда бы не подумал, что будет скучать по нему.
А ещё он скучал по пианино.
Им повезло со школой. Красивая, современная и хорошо обеспеченная. Там был отдельный музыкальный класс и чертовски огромное пианино. Но им редко пользовались: когда Хар в первый раз пошёл в школу после попадания в детский дом, оно было пыльное и царапанное.
Учительница по музыке была просто мерзость. Старик никогда не портил инструменты и бережно заботился о каждом так, словно они были его детьми. А эта учительница плевать на всё хотела: и на засохшие жвачки под клавишами тоже.
В следующий свой приход Хар одолжил тряпки с водой и принялся самолично вычищать инструмент.
Школа была прекрасная, с огромным бюджетом, а такое небрежное отношение к...
Честное слово, после уроков со стариком, Хар не мог смотреть на пыльные инструменты без тошнотворного рефлекса.
Зато звук был там прелестный. Хар каждый раз задерживался после уроков, чтобы поиграть на пианино. Мог в школе остаться и на лишний часок порою. Любовь Дмитриевна часто ругала его за это, но особо не противилась. Она забирала детей из школы, а потом возвращалась, чтобы подождать юного музыканта.
Лив обещал ему, что скупит все билеты на его концерт. Глаф говорила, что он будет главной звездой в оркестре. А Кира уверяла, что он с лёгкостью поступит в консерваторию после выпуска из школы и детдома.
Какая ирония, что всё пошло к чёрту.
Всё пошло к чёрту ещё после той аварии, но Хар искренне надеялся, что хоть что-то из этого сбудется.
«Жизнь послала нас нахуй», — как сказала бы Глаф.
«Скорее, крабы», — поправил бы Лив.
А Хар промолчал бы как обычно, проигрывая в голове знакомые ноты.
Однажды они наткнулись на заброшенный магазин с музыкальными инструментами. Там тоже было пианино. Пыльное, но всё такое же красивое чёрное.
Глаф сказала, что они могли бы его взять. На это Хар ответил, что оно большое, тяжёлое, привлечёт много внимания, и, даже если они его донесут каким-то образом, оно только место занимать будет. Девушка возразила: «По частям перенесём».
Хар отказался: им нужен хлеб, вода и хоть что-то полезное, а не детали от пианино, которое никому кроме него и не сдалось.
Но всё же он взял один кусок из чувства особой сентиментальности в тот момент: скрипя душой и телом, оторвал клавишу и сунул в карман.
С тех пор Хар всегда носил с собой чёрную кнопку. Полировал каждый день, оттирал, следил за тем, что бы не было царапин. Теперь это как талисман и способ успокоиться во время стресса.
— Ты царапаешь окно.
Хар моргнул голубыми глазами. Ногти действительно впились в стекло. Оно неприятно и измученно скрипело в ответ.
А он ещё жаловался, что Лив впадал иногда в транс.
Но, возможно, это семейное.
Лив осторожно сжал плечо брата:
— Это просто от голода у тебя.
Нет, потому что его пальцы изнывали от потребности хоть что-то сыграть. Но спорить особо не хотелось, поэтому блондин кивнул с тяжёлым вздохом.
Уже через несколько минут шуршали полиэтиленовые пакеты, в которые Глаф бережно завернула бутерброды.
«Больше отходы, чем бутерброды», — усмехнулся про себя Хар, когда корочка хлеба блеснула во мраке магазина.
Не то что бы им вообще есть из чего выбирать. Лучше уж это, чем ничего. Хотя лично он давно начал сомневаться в пищевой ценности абсолютно всех нынешних продуктов.
— Тебе нужно было попросить бутерброды с колбасой, а не с маслом и сыром, — пробормотал старший брат, смотря на то, как младший уплетал за оби щеки уже третий бутерброд. — Это не очень сытно.
Лив только пожал плечами, вылизывая палец, на котором остались крошки от хлеба и блестящего масла:
— Я не жаловался.
— Как знаешь.
Устроились они на полу. Он был холодным твёрдым и неровным из-за чуть выступающих плиток. Возможно, это даже выглядело бы красиво, но они были пыльные, грязные и утопали в темноте помещения. Заброшено явно очень давно.
В Анкт-бурге было много заброшенных зданий: магазины, салоны, кафе, ряды квартир. Что произошло с владельцами — вопрос неправильный. Правильный звучит так: что именно произошло с владельцами? И это «именно» очень важно, ведь известно, что было с этими людьми: либо их использовали для создания искусственного золота, либо они стали настолько счастливы, что бросили свою старую жизнь. Интересно, какой вариант каждый раз был.
Хотя ни один из них, конечно, не утешал.
Маслянистый жир от колбасы капнул на белую футболку. Прямо как капли дождя. Только беззвучно. Наверное, потому что это не естественный звук, как сказал бы старик. Это не природа.
Снова так захотелось играть на пианино.
Хар засунул остаток бутерброда в рот и не жирной рукой залез в карман. Чёрная лакированная гладкая клавиша всё ещё была там. Его верный талисман.
Талисман, всегда внушающий, что хуже быть не может, и как-нибудь они выберутся из очередной передряги.
Лив чуть не поперхнулся бутербродом, когда вскочил и начал указывать пальцем в сторону окна:
— Дождь закончился.
И действительно. Теперь только остатки капель с крыши звенели.
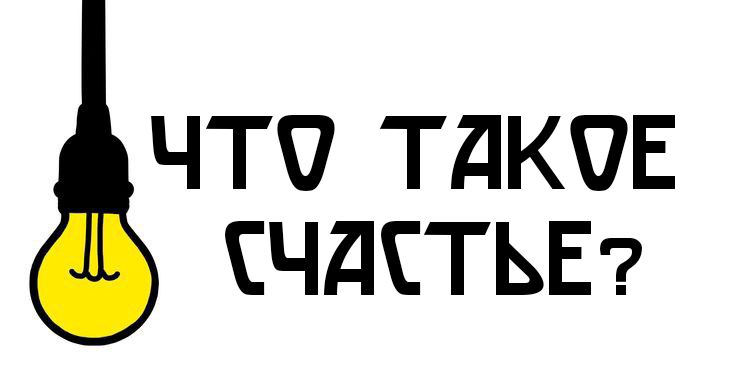
К новой школе привыкнуть Захару было сложно, особенно когда все в классе знали, что он из детдома. До насмешек и издевательств ещё не дошло, но косые взгляды уже были. Было ли это чем-то катастрофически плохим? Нет. Напрягало ли это? Да.
Но, по крайней мере, это хорошо отвлекало от дурных мыслей. Если раньше ему казалось, что он тонул, тонул, тонул и тонул ещё пуще прежнего, а дна не видать, то теперь складывалось ощущение, что он всплывал. Медленно, с каким-то привязанным к нему грузом, что всё ещё хотел его утащить на глубины, но всё же теперь видел отблески солнечного света с поверхности воды.
Всё ещё было темно в воде, но Захар тянулся к свету, стараясь поймать его лучи, и обнаруживал, что с каждым разом он ближе к нежно-голубому небу.
Всплывёт ли когда-нибудь? Возможно, нет. Попытается ли это сделать? Определённо да.
Впоследствии школа стала рутиной. Но рутиной особой, необычной и приятой.
По дороге находился киоск. В нём было много чего: кроссворды, газеты, глянцевые и детские журналы, сканворды.
А ещё там была нотная тетрадь. Обычно они были пустыми, читатели сами их заполняли, но конкретно эта была переполнена готовыми композициями, произведениями и мелодиями. Каждую неделю выставляли новый выпуск. И каждый понедельник Захар незаметно вытаскивал тоненькую тетрадь.
Это была рань: людей по улицам ходило мало, большинство разъезжали на машинах и автобусах к месту работв. Но киоск всё равно был открыт в это время. Правда, продавщица в это же время уходила попить кофе в заведении напротив: что сидеть-то, если народу нет, в конце концов? С другой стороны, зачем вообще тогда открывать киоск в эту рань?
Впрочем, Захара эти вопросы мало интересовали: главное — что можно было незаметно отстать от группы, наклониться к окошку и быстро выхватить тонкую книжку с хлипкими страницами и также незаметно кинуть её в портфель.
В любом случае, пропажу одной тетрадки в один день недели никто не заметит. А за тумбочками в детдоме, слава богу, не следили, по всей видимости, уважая наличие личных вещей детей.
Конечно, сложности, наверное, были излишни. Захар всегда мог спросить про то, возможно ли ему что-то приобрести. Но Любовь Дмитриевна и так многое ему прощала и на многое закрывала глаза. Напрягать её чем-то ещё не особо хотелось.
Дальше всё было как у всех. Уроки, записи, перемены, записи, уроки, перемены, обед и так до бесконечности, пока учебный день не закончится.
Мерзость, а именно так Захар прозвал учительницу по музыке в своей голове за небрежное отношение к роскошному пианино, разрешала ему после уроков оккупировать этот инструмент. Ему нравилась особенно эта часть рутины. Каждый раз играл новую композицию из тетрадки. И каждый раз растворялся из этой реальности. И каждый раз плавал в этих нотах, мелодиях и клавишах. И каждый раз ему казалось, что теперь он не тонул, а плавал: становился рыбой, а не потерпевшим кораблекрушение прошлой жизни. И каждый раз ему казалось, что старик сидел рядом с ним, морщил бородавки, причмокивал сухими губами, а через час придёт мама с братом, и вечером они будут вместе с отцом обсуждать, что произошло за тот день, уплетая ужин.
И каждый раз, отстукивая только ему известный ритм, Захар на время забывал, что он в другой школе, что старика он, вероятно, больше не увидит, что отец решил забыть об их существовании, что ни в какой дом кроме детского он больше не вернётся.
Мерзость не слушала его игру. В это время она уходила в другой кабинет поболтать с Губой, завучем, прозванную им так за то, что у неё был ботокс. Ему же было лучше: это был интимный момент. Что может быть вообще более сокровенно, чем соитие с музыкой? Слияние с ней? Единение?
Этот момент не должен нарушать никто.
Даже друзья.
— Тебе помочь?
Захар смачно опустил тряпку в ведро. Вода громко и тяжело булькнула. Несколько капель застучало над поверхностью. Гладь стала рябью.
— Нет.
Кап, кап, кап, кап, кап, кап.
Захар терпеливо подождал, когда Кира уйдёт. Даже не поворачиваясь, он ощущал её присутствие. Даже не поворачиваясь, видел, как она держалась за дверной проём, едва выглядывая. Даже поворачиваясь, мог ощущать её пристальные, но робкие голубые глаза.
Захар не двигался, а Кира не уходила.
Кап, кап, кап, кап, кап.
— Что ты здесь делаешь? Иди домой.
— Лива волнуется за тебя.
Кап, кап, кап, кап.
— Лива знает, почему я прихожу поздно.
— Глаша...
Кап, кап, кап.
— Хватит отмазываться.
— Ладно, я за тебя волнуюсь.
Кап, кап.
— С чего бы?
Кира чуть осмелела и подошла к пианино.
— Ты мой друг.
Кап.
— Это не причина.
— Тебе не одиноко?
Захар посмотрел на огромный чёрный инструмент. Наверное, он должен был пугать своими размерами, но по сути лишь успокивал. Каждая деталь внушала доверие. Каждый болтик, шуруп, клавиша, кнопка — всё.
— Нет.
Кира присела на корточки рядом со светловолосым мальчиком. Положила руку поверх ладони с мокрой тряпкой. Тень от пианино скрывала их и от мира, и от солнечного света из окна.
— Уходи, — повторил Захар, намеренно отворачиваясь.
Даже объяснять не хотелось, почему. Кира бы не поняла. Ни Глафира, ни брат тоже.
Старик бы только понял. Но его здесь не было.
— Я думаю, — Кира подогнула колени, — каждому музыканту нужна аудитория, — ясно-синие глаза, как небо, невольно встретились с блёклыми голубыми.
Захар хмыкнул. Спорить с этим утверждением было сложно, однако. С другой стороны, это не было ни сценой, ни оркестром.
Тряпка выпала из рук. Мальчик вытер нос тыльной стороной ладони.
— Что если музыкант пока лишь тренируется?
— Тогда я спрошу, когда у него выступление, — не унималась девочка с блондинистым хвостиком.
Если Захар даст ей в один день послушать, как он играл... Отстанет ли она? Возможно, нет.
Но попробовать стоило. Хотя бы для того, чтобы она сейчас ушла. И чтобы пол не отсырел от мокрой тряпки.
— Приходи завтра.
Кира обворожительно улыбнулась и выпорхнула из кабинета, как бабочка перелетала с цветка на цветок.
— Приду!
Кира откинулась на спинку дивана. Зелёная ткань было чёрно-серой в каких-то местах. Прожённая. Как будто много раз тушили сигарету в этом месте.
— Кто курит?
— Хар, — Глаф пожала плечами, отпила глоток из кружки с золотистыми узорами цветков и лиан на ней. — Лив считает, что нынешний табак вреден вдвойне, а меня не успокаивает.
Кира повернула голову в другую сторону. Стены могли бы напоминать корабль и покои, в которых она жила эти несколько лет, но они не были полностью золотыми. Это, скорее, выглядело как мазки краски. Небрежные, частичные, отрывистые, кусками разбросанные по комнате.
Глаф с любопытством скосила чёрные глаза на золотое пятно. А затем поморщилась и протёрла веки, зашипев. Кира же продолжала глядеть, не моргая.
— У тебя не рябит в глазах? — Глаф закрыла лицо руками, пара капель слёз скатилась по пухлой щеке.
— Нет, — тихо пробормотала розоволосая. — Даже не слезятся. Вскоре после вашего ухода, — склонила головку набок, голубые глаза остеклянели, — нам дали капли. После них можно даже не моргать в принципе.
Глаф нахмурилась, короткие кудряшки даже чуть вздыбились:
— Это вообще здоро́во? — вопрос звучал так скептически, что было понятно, что ответа он не требовал.
Но Кира всё равно пожала плечами, наконец прикрыв веки. Всё ещё ничего. Глаз как будто и не было. Не ощущалось. Не болело. Не ныло. Не пульсировало. Ничего.
Огромное ничего.
— Это так же здорово, как и всё остальное, что сейчас существует.
По всей видимости, шутка Глаф понравилась: усмехнулась. Горько, правда. С печалью. Грустью. Но это был какой-никакой смешок.
Кира давно не слышала радости в голосе Плет.
Она многого давно не видела и не слышала. Не чувствовала.
— Скажи ещё что-нибудь смешное, — чуть улыбнулась Глаф своими кончиками пухлых губ.
Густые брови приподнялись вверх в озорном ожидании.
Тонкие губы тоже улыбнулись. Кира обернулась к бывшей подруге подруге:
— Ты даже, блять, не представляешь, как Шес ужасен в постели.
Глаф расхохоталась и чуть вытянулась к розоволосой. Подложила под бородок кулаки, лениво дрыгая ногами — поза, показывающая готовность слушать:
— Подробности, подруга, подробности.
Кира померкла. Тихий вздох. Лёгкое вздымание груди.
— Кроме глазных капель было ещё кое-что.
Озорный блеск пропал из чёрных глазюк Плет. Поняла, что тема и разговор серьёзные.
— Я не знаю, что это, — поспешила предупредить Кира. — Тебя просто отводят в комнату, — она потеребила розовое платье, уже почти высохшее, — укладывают на кушетку, — почему так сложно было вспоминать? Почему всё покрывалось дымкой? — удерживают за руки, — невольно худое тело вздрогнуло, хотя холодно не было. — А потом тебя ослепляют. Быстрые яркие вспышки. Золотые, — она уже это пережила, почему её голос хрипел? — Так продолжается несколько минут. Возможно, часов... Но в конце ты выходишь оттуда... — Кира чуть не подавилась воздухом, чуть не всхлипнула, чуть не задохнулась, — абсолютно счастливым.

Ливерий не мог перестать дрожать.
Трясся, задыхался, плакал, передёргивался. Валялся на полу, перекатывался с боку на бок стучал руками об пол. Бился головой, расшибал лоб, нос, брови, царапал щёки, стучал зубами.
Ливерий делал всё, чтобы перестать дрожать. Чтобы перестать рыдать на холодном полу. Чтобы перестать умирать.
Умирать.
Так ли ощущалась смерть? Так ли она приходит? Без плаща, без косы, без скелетной руки? Просто притрагивается к грудной клетке, и тебе тяжело дышать, и ты дрожишь?
Ливерию говорили, что смерть — это путь к покою. Но на умиротворение это не походило.
Он пытался. Правда, пытался перестать трястись. Всеми силами. Испробовал буквально всё возможное и невозможное.
Но он всё равно дрожал.
Где все? Воспитатели, дети?
Сначала Ливерий попробовал сосчитать в уме. Представил прямо как мультиках: овечки-облачка прыгали через загончик. Раз, два, три, четыре, пять...
Но он всё равно дрожал. И задыхался. И сердце истошно кричало. И слёзы рекой лились.
Где все люди?
Ливерий решил посчитать по-другому, словно в ритме вальса: раз, два, три — раз! Раз, два, три....
Всё равно дрожал. Всё равно больно. Всё равно тяжело. Всё равно тяжко.
Где все?
Когда цифры не помогли, Ливерий перешёл на другой способ успокоения самого себя: пять вещей, которые он видел? Стены, потолок, пол, кровать, дети. Четыре вещи, которые он слышал? Шуршание простыней, детские голоса, стучание каблуков, жужжащая муха. Три вещи, которые...
Бессмысленно. Он всё равно дрожал. Бессмысленно, бессмысленно, бессмысленно, бессмысленно, бессмысленно...
Бессмысленно! Всё бессмысленно!
И где..?
Ливерий пытался ещё отвлечь себя: топал ножкой, щёлкал пальцами, стучал зубами, кусал губы, сжимал грудь, сковыривал ногти.
Он всё равно дрожал.
Где все были? Где Захар, Глафира, Кира, Любовь Дмитриевна?
Где они?
И почему Ливерий не мог перестать трястись? Почему лежал на полу, расплостав руки? Почему он вообще здесь оказался? Почему ему больно? Почему он не мог успокоиться?
Где, почему, где, почему, где...
Лив покрутил пистолетом в руке. Небрежно игрался, вертя на пальце курок. Это кольцо напоминало маленький обруч. Пистолет делал обороты вокруг своей оси быстро, но далеко непросто: всё же весит не как перо, так что прилагать усилия всё равно приходилось.
Это не отвлекало, скорее, разминало пальцы. Даже помогало сконцентрироваться. Переодически Лив перекладывал пистолет из руки в руку. Пальцы болели, но он всё равно продолжал. Вновь и вновь. Снова и снова. Раз за разом. Не прекращая и не переставая.
Хар в это время уже закончил собирать рюкзак. Застегнул молнию и закинул на плечи лямки. Из кармана достал резинку и зацепил светлые волосы — теперь вместо небрежного каре был ухоженный хвостик. Синие глаза прищурились на младшего брата, а губы сморщились:
— Ты не бежишь вперёд, — Хар подошёл к брату и надавил слегка на плечо в качестве или поддержки, или наставления, — идёшь следом за мной, — прошёл мимо, позволяя ладони скатиться с тела Лива, — не отстаёшь, — полез в карман, — не разговариваешь даже шёпотом, — вынул коробок с сигаретами, — если на нас нападут, ты не участвуешь, пока я не скажу тебе, — чиркнул золотым концом о картон, — ты не предпринимаешь никаких мер, пока я не скажу, — уточнил Хар, выдыхая золотистый дым. — Ты понимаешь, Лив?
О, он понимал. В каждом, так сказать, «приказании» была доля здравого смысла: держаться они должны были вместе, чтобы не потеряться в кромешной темноте, разговоры могут быть достаточно громкими, чтобы их заметили, а выстрелы пистолета могут привлечь слишком много внимания на улице-то.
И Лив собирался этому следовать безукоризненно до того момента, пока старшему брату не угрожала опасность. В этом случае ему было абсолютно плевать на все указания: он не собирался просто позволять Хару умирать.
Впрочем, тоже желание читалось и в этих решительых голубых глазах. Они оба не были готовы терять друг друга.
Безопаснее всего нужно было бы уйти ещё через несколько часов, когда крабы окрасят все дома, но в этом и суть: именно после дождя они занимаются проверкой заброшенных помещений. Именно в это время обстановка наиболее опасная. Уходить нужно было и как можно быстрее.
Золотой дым осветил тусклую комнату. Раньше были видны лишь небрежные контуры фигур и мебели, а сейчас на чёрный фон были добавлены мазки краски с жёлтыми оттенками. Хар обернулся, и голубые глаза посинели ещё больше при таком свете. И стали ещё более серьёзными.
Лив медленно кивнул, пистолет застыл на месте, давя на указательный палец курком и весом оружия:
— Да, — позволил себе лёгкую улыбку. — Понимаю, — склонил голову, выбившийся волосок из русой зачёсанной чёлки попал в глаз.
Хар тихо вздохнул, кажись, неубеждённый, но ничего не сказал. Вместо этого обернулся, дёрнул за ручку входной двери и распахнул её.
Холодный ветерок после дождя тут же попал внутрь. Лив сглотнул.
Быстро!
Быстро, быстро, быстро, быстро!
Братья Ос мчались по переулкам, дворам, улицам, разбрызгивали воду с луж, пускали золотой дым с сигареты, используя его как фонарь. Поворот влево, поворот вправо, поворот вправо, поворот влево, поворот...
Если сначала Лив мог отследить куда и как они бежали, то на около шестой улице окончательно запутался, уже не следил за названиями или знакомыми ориентирами. Главное было — не утерять из виду тёмную фигуру с капюшоном и золотистый дым.
От бега болели ноги, отчего Лив временами врезался в кирпичные стены, но тут же отталкивался от них руками и продолжал путь.
Всё размывалось. Сливалось. Теряло фокус. Где они были? Где бежали?
Так ли это было важно?
Бежали. Главное — что бежали.
Главное...
— Стоять! — громогласный крик Хара.
Ещё поворот. Ещё поворот, ещё... что?
От неожиданности Лив врезался в стену головой. Расшиб лоб. Ужасно кололо.
Шатен упал на асфальт, стискивая зубы, сдерживая даже шипение не то что крик. Ноги были измучены. Встать не было сил.
Лив распахнул глаза.
Как же он устал, как же больно, как же...
Младший Ос вскочил, выхватывая пистолет из кобуры.
«Перезаряжайся, перезаряжайся, перезаряжайся..!»
Два краба навели ружья на Хара. Оба готовы были выстрелить. Но он им не дал: правого в живот ударил ногой, левого схватил за шею, отбрасывая в сторону.
От тревоги пули с гильзами валились из рук, как вода течёт сквозь пальцы. Словно монеты стучали и отпрыгивали от дороги. Губы дрожали, а карие широко распахнутые глаза застыли в ужасе.
Да что с ним такое?! Почему Лив не мог собраться?!
Первый краб собрался быстро, прогремел выстрел, но Хар вовремя отскочил в сторону, в темноте блеснуло яркое золотое лезвие, но прежде чем оно успело перерезать горло пришельца в золотой хихикающей маске, руку перехватили, а в лоб блондина было наведено дуло. Поднимался и второй, упавший, в маске застывшей злобы. Подбирал ружьё.
«Нет времени!» — наплевать на пули.
Лив рванулся вперёд.
Хар ударил ногой вбок по коленям, краб выстрелил, но дуло ружья отскочило вверх. Рука с ножом освободилась.
Лив руками оттащил «злого» за плечи и ударил его головой об асфальт. Выстрелившая пуля отрекошетила от стены.
Хар пальцами вцепился в черный копюшон. Золотое лезвие проехалась по плащу, разрезая шею. Кислотно-жёлтые брызги разлетелись во все стороны. Нечто похожее на кровь, но иного цвета брызнуло как вода в воздушных шарах. Ружьё выпало из вмиг ослабших рук.
Лив подпрыгнул и ногами ступил на спину «злого». Сделал два шага вперёд и два шага назад. Два раза прыгнул. Пистолетом ударил по копюшону. Ещё раз ударил. И ещё раз. Пока не убедился, что краб не собирался вставать.
«Хихикающий» уже лежал замертво. Но Хар всё равно продолжал бить ножом. Резать. Вновь и вновь. Удар. Жёлтые брызги. Удар. Удар. Жёлтые брызги, ещё жёлтые брызги, ещё удар, ещё...
Лив поспешно спрыгнул и подбежал к брату. Перехватил за локоть. Тёмно-голубые глаза, залитые кровеносными сосудами, тупо уставились на младшего. Светлые брови нахмурились, и ничего более и не показывало, что он зол, что находился в слепой ярости. Смотрел буквально насковозь. Как будто хотел замахнуться и на шатена.
— На это нет времени, — осторожно выдал Лив, легонько кивая на труп.
Нет времени измываться над ним, когда могли прийти остальные.
Хар моргнул, смутился и опустил руку. Протёр веки. Постоял несколько секунд в тишине. За это время Лив успел подобрать пули.
— Их нужно убрать куда-нибудь, иначе надзор усилиться после обнаружения, — наконец произнёс старший брат охрипшим голосом, как будто кричал долго и мучительно громко.
Лив оглянулся. Вывеска «барахло и тысяча мелочей» слепила глаза от яркости. Магазин. Наверняка, в такое время, после дождя, там никого нет.
Хар вновь прохрипел, за руки вытягивая безвольное тело и перекидывая его себе на спину:
— Я же говорил тебе, чтобы... — тяжело вздохнул, покачал головой и не закончил.
Лив подхватил другого умершего. Он был таким лёгким. Как и любой другой краб. Пушинка.
Усталость как рукой сняло адреналином.

— Выпей, — Глафира тряхнула чёрной шевелюрой, протягивая стакан с водой и белую таблетку в виде капсулы. — Любовь Дмитриевна сказала, что это поможет.
Ливерий трясущейся рукой взял воду и лекарство. Маленькие пальцы так сильно сжали стекло, что, казалось, оно треснет. Соскальзнёт и разобьётся на тысячу осколков. Вода растечётся по стеклу. А таблетка упадёт и мифическим образом растает в этой луже.
— Я... — хотел было начать Ливерий.
— Пей, — Захар обнял младшего брата за спину.
Они сидели в общей комнате. Куча кроватей друг на против друга, маленьких тумбочек, серые стены, деревянный скрипучий пол, пыльная люстра — всё это ничто иное как атрибуты спальни детей аж нескольких групп.
Белая простыня комком валялась на желтовато-коричневом полу: это Ливерий её сбросил при своём... «приступе»? Любовь Дмитриевна произнесла именно это слово, но у Глафиры на языке оно звучало инородно по отношению к этому мальчику. Как-то неправильно. Как будто так не должно быть.
Но так и было, да?
Кира стеснительно и робко вошла в комнату, семеня ногами. Аккуратно подобрала простынь и принялась её расправлять.
Громкие хлопки в воздухе заглушали слова братьев, из-за чего Глафира раздражённо зыркнула на блондинку. Та виновато втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Белая ткань выпрямилась и сложилась на две части в руках девочки. И ещё на две части. И ещё. Складывала до тех пор, пока простыня не превратилась в ровный белый квадрат.
Ливерий тем временем проглотил таблетку и вытирал мокрый рот локтём.
Глафира села на кровать к братьям. Матрас чуть подпрыгнул под ней.
— Что это было? — просто спросила она.
— Скажи ещё более прямолинейно, — зашипел Захар с раздражением.
— Ну, если ты настаиваешь... — Глафира изогнула толстую бровь.
Когда самый старший из братьев хотел огрызнуться, младший тихо пробормотал, отсутствующтм взглядом пялясь в серую стенку:
— Я не знаю, что это было.
И больше он не сказал ни слова за день.
Кира выгнулась, держась за подушки дивана.
— А ещё... почему вы не ходите в золоте? Разве так не было бы проще? Ну, скрываться?
Наверное, было бы. Но никто из них не знал, какой вообще эффект имело искусственое золото. Оно итак было на многих их вещах и даже на еде. Кто знал, что может быть, если его будет слишком много? Если была возможность не использовать его, они не будут этого делать.
Глаф пожала плечами.
Кира продолжила:
— Это не причиняет вреда. Как и любое другое искусственное золото, — девушка села боком и легла на подлокотник, поджав ноги. — Это же просто... светильник, — махнула рукой в воздухе, направляя её к потолку. — Если вам не светили в глаза гигантским фонарём, вам золото ничем не грозит. Оно поддерживает замутнённое состояние ума — не более, — Кира положила под голову руки и закрыла глаза.
Глаф задумчиво склонила голову и взглянула на розоволосую. На веснушки, на маленький нос, на крохотные глаза, на подрагивающие реснички, на тонкую шею. И всё же с детдома Кира мало изменилась: робкая, стеснительная, но добрая и милая. Всё та же неженка, какой и была несколько лет назад.
Только вот выглядела получше: и украшения, и платье, хотя и сыроватое, но выглядело ново, и блестящие туфли. Сразу похоже на то, что была не в детдоме, а у короля.
Кира была красивой девушкой. Возможно, не эталоном женственности, но что-то в ней было. Неудивительно, что её заметил Шес и пригрёб к себе.
Интересно, что звучало более мерзко: король-пришелец или проститутка король-пришельца?
— Они не пришельцы.
Глаф, что, сказала это вслух?
Голубые глаза задумчиво закатились кверху. Тонкие губы дрогнули. Длинный ноготок теребил многочисленные ожерелья на шее. Ковырял камни, звенел колечками, из которых состояли цепочки.
— А кто тогда?
Кира не ответила. Перевернулась набок, ещё сильнее пододвинула к себе худые ножки.
Большие чёрные глаза неустанно следили за тельцем в розовом платье. Глаф даже подумала, что девушка уснула. Но нет:
— Паразиты.

Захар хрустнул пальцами. Лёгкое прикосновение к клавишам. Чёрные лакированные кнопки были гладкими и блестящими.
Красивые. Чертовски красивые.
И чистые! Такие чистые и новые.
Дверь в кабинет скрипнула.
— Я сказала Любовь Дмитриевне утром, что тоже задержусь, — Кира выглянула из-за проёма, держась за косяк. — Куда мне сесть?
Захар пожал плечами.
Девочка улыбнулась и толкнула светловолосого вбок:
— Тогда двигайся!
Возмущению Захара не было предела. Но он смолчал. Поглядел только презрительно-равнодушно на блондиночку с хвостиком. А она добродушно улыбалась. Прямо как солнышко: даже веснушки были — поцелуи от жёлто-оранжевого светила.
Захар тихо вздохнул. Перелистнуть страницы нотной тетради. Ещё несколько.
«Нет, не то, — перебирал композиции он. — А это слишком личное. Что если...»
Захар взглянул на ноты. Плавные, аккуратно выведенные, округлые. Несколько маленьких и несколько больших. Пузатые и тонкие.
Они плясали и завывали присоединиться к их чудному танцу. Пели звонко, обрывочно, но так красиво.
Хорошая композиция. Не сфальшивить бы и не оплошать.
Первые нажатия были медленными и неуверенными. В конце концов, Захар никогда не выступал перед зрителями — только перед стариком. И даже если зритель — абсолютный дилетант, волнение всё равно хлестало волнами.
Но чем больше Захар нажимал на клавиши, тем увереннее и плавнее шла мелодия.
В какой-то момент он закрыл глаза. Больше не существовало ничего. Только пианино и Захар. Только он и строчки нот в голове. Только он и музыка. Только он и удары по клавишам. Только он и кнопки.
Похоже на капли дождя. Только звонче. И даже так неидельно. Так далеко от совершенства.
И всё же... по-своему красиво.
Похоже на битое стекло. Только искусственнее. Так ненатурально и неестественно.
И всё же... что-то в этом было.
Похоже на...
Да разве это важно?
Захар играл, играл, играл, играл и играл. Счёт времени давно был потерян. Были неважны никто и ничто.
Лишь музыка. Только музыка.
— Ты такой счастливый...
На Киру хотелось выругаться как никогда раньше. И на себя тоже.
Композиция была испорчена скрежетом клавиш. Захар отвлёкся, вырвался из транса, и теперь вместо красивого конца — история из разряда «кошка прошлась по клавишам».
Захар молча уставился на светловолосую. Кира выглядела озадаченной.
— Ты выглядел таким... таким... — запиналась она, её губы дрожали, — спокойным... Почему ты..?
Захар и не моргнул. Синие глаза были полны равнодушного холода.
— Что?
— Зачем ты... — Кира то ли не глубоко застонала, то ли не грубо зарычала и подскочила со стула, чуть ли его не опрокинув с Захаром. — Почему ты всегда такой замкнутый?! — теперь она откровенно надрывала глотку. — Ты думаешь, что так ты выглядишь сильным?! — перевела дыхание, в голубых глазах застыла пелена, ручеёк тихо стёк по щеке. — Тогда у тебя получилось создать этот образ, — шёпот, бормотание, всхлип и полнейшее разочарование с обидой. — Гордись этим, «сильный». Неужели ты действительно думаешь, что никто из нас не слышит, как ты плачешь по ночам? Неужели ты думаешь, что мы действительно верим во все твои бредни, что ничего не было? Зачем это? Чтобы потом выплёскивать всё в этом мрачном кабинете? Чего ты хочешь добиться? Если... — отвернулась, — ты хочешь продолжать играть роль дурака, не думай, что мы тоже такие.
Кира тихо вышла из кабинета и хлопнула дверью.
Возможно, заходить в магазин было несколько опрометчиво. Но куда-то спрятать крабов нужно было, не на улице же оставлять, а то слишком видно.
И всё же Хар был уверен, что идея обречена на провал, как только пересёкся взглядом со стариком за стойкой.
Блондин наклонил голову, краб скатился на пол, негромко шлёпнувшись. Медленными шагами приблизился к продавцу.
— Хар? — озадаченно пробормотал брат.
Старший проигнорировал младшего и продолжил идти. Старик закрыл рукой золотой лоток с деньгами. Были и монеты, и купюры — и всё блестело и светилось. А на стойке больше ничего и не было-то.
Морщинки выглядели знакомо. Так же, как и густые усы. Так же, как и припухлая нижняя губа. Так же, как и маленькие бегающие глазки. Так же, как и аномально красный нос.
Хар подошёл к прилавку. Старик учащённо задышал, прикрывая лоток уже двумя руками. Несколько монет от резкого движения выпали и стукнулись об стол.
— Пап?
Хар обречённо опустил руки. Тело задрожало.
— Пап... — нервная улыбка, слёзы. — Пап..! — смех. — Пап! — Хар прыгнул через прилавок, обняв старика за шею, на что тот от испуга закряхтел. — Пап! Пап! Пап! Пап! Пап!
Он смеялся и плакал, плакал и смеялся. Синие глаза сияли радостью, хотя и фонтан слёз обрызгивал всё вокруг. Тело дрожало, но ощущалось пушинкой, пёрышком, что вот-вот взлетит.
Хорошо. Было так хорошо на душе. Порхали не только бабочки, но и птицы, а за птицами стрекозы, божьи коровки и все-все-все.
Как же хорошо. И тепло. Впервые за долгое время так тепло. Как будто нормальное лето.
— Захар..? — тихо спросил старик, притягивая парня к себе крепкой волосистой рукой.
Голос... этот голос!
Хар думал, что если он разорвётся от счастья, переполнившего всё его тело так, что оно буквально выливалось наружу такими яркими и инфантильными эмоциями, он не будет против. Если его сейчас же застрелит краб — тоже сопротивляться не будет.
В конце концов, всё так замечательно, чудесно, прелестно, и, будь у него крылья, он бы взлетел и прыгал по воздуху, как сумасшедший.
— Да! Да! — продолжал вскрикивать Хар, улыбаясь от уха до уха. — Папа... — он отстранился и притронулся к щекам мужчины.
Сухие, засохшие, но такие родные.
Господи, он никогда так много не лил слёз, как сегодня. Но как можно не плакать, когда тут такое, такое..!
Лив нахмурился и подошёл к этим двоим.
— Это..? — он недоговорил, только махнул небрежно рукой в пространство, после чего застыл, смущённо моргая.
Хар медленно обернулся, вытер кулаком глаза и спрыгнул с прилавка. Лоток с деньгами упал на пол. Старший брат приблизился к младшему и потряс его за плечи. Где-то час назад ему казалось, что он совсем иссяк в плане сил, что моральных, что физических, а сейчас столько энергии, сколько её никогда не было.
— Да, — блондин не мог перестать смеяться и улыбаться. — Это наш отец!
Лив не ответил. Оцепенело смотрел в пространство, что заставило Хара выйти из транса абсолютного и подлинного счастья. В конце концов, он был ответственным за брата, и нужно было следить, чтобы его случайно не заклинило, как иногда бывало
«Тупая идиотина», — оскорбил сам себя Хар, приходя в чувство.
Он нахмурился и осмотрел брата на случай чего бы то ни было, хватая за лицо:
— Лив?
Шатен отнял руку блондина от своего лица. Ни дрожи, ни страха, ни неуверенности.
Значит, был в себе. Что хорошо.
Наверное.
— Ливерий..? — старик бормотал, всё так же выпучивая глаза.
Взгляд сына и отца пересёкся. С такого ракурса они были очень похожи. Густые брови, русые волосы, карие глаза, вытянутый подбородок. И только сейчас Хар обратил внимание: золотые часы, золотая цепь на шее, золотые одежды, золотые прореди в волосах. Золотые шкафы, усеянные безделушками и никому не нужным старьём, покрытое также этим блеском.
«Идиотина», — повторил про себя Хар.
Это бессмысленно. Так же бессмысленно, как и с Кирой. Отец ведь даже не сказал ещё ничего внятного с момента их прихода.
Рано радовался. Рано хотел прыгать по помещению как сумасшедший. Рано решил отойти на покой при таких новостях. Рано решил отрастить крылья.
«Тьфу ты, блять», — хотелось выругаться как Глаф и также пнуть ближайшую мусорку да сплюнуть в неё.
— Пап, — очень тихо начал Лив, медленно подходя к пожилому человеку, — я не помнил, как ты выглядишь, но помнил самого тебя, — он встал у стойки, осторожно положил ладони на столешницу. — Я знаю тебя, ты бы так не сделал никогда... Но почему ты не пришёл за нами?
Казалось, итак тёмное помещение потемнело сильнее. Даже искусственное золото бы не помогло, а ведь оно было. Мгла покрыла магазин. Окутала, заковала в цепи, затопила, пробралась во все щели. Она была таинственным зрителем, безбилетником: ей самой хотелось увидеть развязку, узнать ответ на волнующий вопрос.
Хару не очень хотелось знать. Отчасти он знал, что произошло. Отчасти. Отчасти, потому что Любовь Дмитриевна сказала, что отец не берёт трубку. Отчасти, потому что она же мягко сказала, что им с братом лучше никого не ждать. Мягко это было. Очень и очень мягко. Но Хар умел читать между строк, просто отрицал долго.
Младший сын и его отец находились в опасной близости друг к другу. Вероятно, старик не вооружен, да и чем? Крабы избавились от всего людского оружия, теперь оно заброшенным валялось в старых зданиях и то не везде. За всё время, что они жили в этом новом мире, им троим удалось найти лишь один пистолет. Только несколько раз попадались патроны.
И всё же... Хар невольно коснулся ножа. На всякий случай.
Радость из-за встречи с отцом мигом покинула тело, а настороженность взяла верх. И как он мог быть таким... глупым? Бессмысленно.
Всё это так... бессмысленно. Конечно же, отец не будет нормальным. Конечно же, безусловно, очевидно и любые другие синонимы.
Наивный дурак.
Старик опустил голову.
— Я не знаю, я... — губы еле шевелились, пелена застлала карие глаза. — Я испугался.
Хар нахмурился. Ему казалось, что он это отпустил, когда посмел принять этот факт от воспитательницы. Но обида всё равно жгла. Чиркала спичойу и разливала внутри бензин.
— Чего?
Но прежде чем старик успел что-то ответить, сзади донеслось тяжёлое кряхтение. Братья Ос обернулись. Тело в тёмном плаще поднималось, хотя и нелегко, шатаясь и дрожа. Краб был хоть и жив, но обессилен: стоял на коленях и даже встать не мог.
Хар оглянулся на младшего брата, стиснув зубы и зашипев:
— Нужно было сильнее врезать.
Лезвие с хлыстким звуком разрезало воздух, когда блондин вытащил нож. Он уверенно шёл к полулежащему крабу. Всё остальное перестало существовать в этот момент. Только он и ещё дышащий пришелец, которого нужно умертвить сейчас же. Тот всё равно ничего не сможет сделать, но избавиться от него нужно. Мало ли что: вдруг сможет восстановиться и позвать на помощь, дать информацию об их возможном местонахождении?
Он мог сделать что угодно, и его нужно устранить в сию же минуту.
— Захар? Что ты..?
Жёлтые брызги уже покрыли пол магазина. Кислотные капли тихо стекали с ножа. Напоминало дождь в какой-то мере: только грибной или моросящий — в общем, совсем незаметный и еле ощущаемый.
Краб даже не кричал, как, впрочем, и остальные ему подобные: упал замертво, словно завалился в сон. В вечный.
Голова с маской гулко приземлилась на пол, отрубленная лишь одним взмахом. Похоже было на трубу: не было внутренностей, только пара костей — и всё. А ещё пятна. Тысячи кислотно-жёлтых пятен, соединённых между собой чем-то наподобие вен, извилистых и кривых линий.
Напоминало опухоль. Хотя, скорее, это странноватые пузыри. Некоторые уже лопались и разбрызгивали жёлтую жижу по помещению.
Старик ахнул, задохнулся и схватился за сердце:
— Помогите! Помогите! Помо — !
Лив прикрыл сморщенный рот отца. Он не сопротивлялся, лишь мычал. Не бился, не пытался вырваться, не кричал чуть громче, чтобы его услышали.
Наверное, это выглядело со стороны жалко. Но Хар чувствовал лишь горечь в горле, смотря на это зрелище. Аж блевать хотелось.
А потом пожилой мужчина заплакал. Зарыдал, как маленький ребёнок. Морщинистые пухловатые щёки постепенно покрывались влагой. Бледная кожа алела, розовела, а зубы едва касались нижней губы. Густые брови страдальчески сводились на переносице. Красный нос хлюпал, и белая слизистая субстанция стекала по рту и подбородку, когда отец всхлипывал, сглатывая всё, что только можно: слёзы, сопли, слюни.
Что-то сжалось в груди. Где-то около сердца. Возможно, в нём самом. А, возможно, забились лёгкие. Или живот скрутило. В любом случае было тяжело. Давило внутри.
Что это? Печаль, грусть? Сожаление? Это ново и непривычно: в последнее время Хар чувствовал лишь... пустоту. Да, пустоту. Иногда она заполнялась: злобой, раздражением, испепеляющей ненавистью, мимолётной радостью, тоской, беспокойством, тревогой... Но грусть? Нет, такого он давно не ощущал. Все слёзы были уже выплаканы по самым разным причинам, но выплаканы (единственным исключением был сегодняшний день): их просто не осталось, их и сейчас нет, но...
Что-то болезненное было в этой картине, что-то заставляющее сжиматься всё внутри не яростным пламенем, но пламенем какой-то скорби или какого-то горя. Что-то ему незнакомое, но что-то сильное и мучительное.
— Я не понимаю, — Хар отвернулся, во рту было ощущение, как будто он разжевал леденец от кашля, — почему ты плачешь?
Он отвернулся, светлый хвостик шелохнулся и казался слабеньким. Блондин потянулся к голове и затянул резинку потуже, пока его же шаги разносились по пустому магазину. Пол, плиточный, усеянный кафельными квадратами, позволял шагу кроссовок раздаваться так громко и ясно, словно это были туфли.
Длинные пальцы коснулись подоконника. Пыльный и суховатый. Чуть-чуть измазан искусственным золотом.
Окно тоже не отличалось чистотой, но, по крайней мере, не было закрашено этой блестящей желтизной. Там, на улице, вовсю патрулировали крабы. А ещё красили дома, машины, дороги, распрыскивали всё баллончиками.
Небо на улице было неизменно чёрным. Вечная ночь. Даже звёзд не было. И луны тоже. Абсолютное ничто.
Хар смотрел долго в эту бесконечную темноту. Ничто, ничего, пустота — какое ещё у этого есть слова?
Жалкое это, конечно, зрелище, хоть бы его тоже обляпали искусственным золотом...
И тут его осенило. Кто-то нажал на выключатель, и зажглась лампочка с щелчком и искрой на вольфрамовой нитке.
Это то, что было в голове у Киры? Что в голове у отца? Пустота, закрашенная блеском и лоском, ярким жёлтым цветом. Это всё, что у них есть, всё, что у них осталось — и больше ничего.
Конечно же, когда что-то прорвётся через красивую дымку, они будут сильнее цепляться за это роскошную занавеску, вгрызаться в неё зубами. А потому они и выглядят такими растерянными и запутавшимися, когда у кого-то получается сорвать шторку.
А потом... они начинают плакать, ведь столкнулись с пустотой, которая всегда там была, но до этого её хотя бы прикрывало что-то золотое и блестящее, как будто у них внутри действительно что-то было.
Но это не так. Крабы забрали у них всё и дали взамен лишь глупую золотую занавеску.
Хар вздохнул и закрыл лицо рукой. И разве это не делает самых счастливых людей на данный момент глубоко несчастными?
Слёз не было, что неудивительно, но были судорожные вздохи. Снова что-то сжалось внутри. Снова было тяжело дышать.
Он не сможет помочь, не так ли? Эти люди давно и безнадёжно обречены на вечные страдания. Муки. Терзания. Бессмысленное существование. Жизнь без цели. Без мечт и без надежд.
А Хар думал, что это у него пустота. Но он может заполнить её в любой момент чем угодно. Это даже было только что! А они, остальные люди, не могли. Не умели. Да и не чем заполнять.
— Хар?
Блондин сунул руку в карман. Клавиша на месте. Квадратная, гладкая, такая приятная на ощупь...
Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Всё будет...
— Захар..?
Парень обернулся. Лив выглядел неуверенным: не знал, куда деть руки, поджал губы, свёл брови на переносице и переглядывался нервно с брата на отца, с отца на брата и так до бесконечности.
Старик же продолжал плакать, но взгляд его был удивлённым и потерянным. Таким, таким потерянным.
Стеклянные карие глаза. Как будто радужка, яблоко, зрачок — всё — под куполом. Или внутри прозрачного шарика.
В голове Хара пронеслась мысль. Совсем мимолётная, лёгкая, как набросок карандашом.
Она должна была улететь так же быстро, как и пришла. Но по какой-то причине Хар задумался над этим. Разжёвывал эту мысль, как резинку. Она была тягучей, едва уловимой, но всё же ясной.
«Это неправильно, — взялся он рассуждать, — но когда я делал хоть что-то правильное?»
Когда мама была жива, наверное. Но сейчас она мертва. Уже как восемь лет. И уже как восемь лет Хар выбросил моральный компас на помойку: какой смысл от него, если мир не мил к его совести? Был, возможно, какое-то время, но недолго.
Наверное, это неправильно, если судить по этому компасу. Но сейчас... сейчас Хару казалось, что это ничто иное как милость и сострадание.
Всё было как во сне: блеснувший во мраке нож, кровь, кричащие отец с братом, кровь, такие испуганные карие глаза и кровь. Много крови. На ноже, на рубашке отца, на его коже.
Старик закашлялся, испустил тяжёлый вздох. Последний, возможно, предпоследний, кто вообще считает?
— Захар...
— Меня зовут Хар, — отрезал блондин, потянулся за нож, оттащил назад и вырвал из грудины с характерным треском. — Пап, — он слабо улыбнулся, в синих глазах застыла новая волна слёз, — я тебя очень люблю, — судорожно глотал воздух с соплями, но улыбался. — Можешь это и маме передать?
Морщинистая голова откинулась на спинку стула. Глаза покрылись пеленой. Последняя слеза скатилась по щеке. Приоткрылся рот. Зрачки закатились.
Хар рассмеялся.
— Зачем ты это сделал?! — Лив оттащил его от отца.
Он не сопротивлялся. Наоборот поддался и упал на него спиной. Младший брат отскочил в сторону, прежде чем вес старшего брата успел его задавить.
Приземляться на пол было больно. Не то чтобы Хар это чувствовал.
Было смешно. Было грустно. Было весело. Было больно. Было радостно.
Кажется, он сходил с ума, но, с другой стороны, какая уже разница?
— Я освободил его! — нож выпал из его рук. — Я помог ему! — он продолжал смеяться, улыбаться и рыдать, всхлипывать. — Я избавил его от страданий! — это нормально хохотать и плакать одновременно? — Я..! Я!..
«Я убил его», — внезапно подумал он, и закричал, и начал барахтаться на полу, как делал его младший брат в припадках, и заплакал, и зарыдал, и, и, и...
Хар впервые за несколько лет пролил слёзы, как ребёнок.
Однажды Кира сказала ему, что он лишь выглядит сильным. Что на самом деле он дурак.
Возможно, она была права.
В конце концов, сильные так не ведут себя, но он ничего не мог с собой поделать.
Хару хотелось смеяться — и он смеялся.
Хотелось плакать — и он ревел навзрыд.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro