2 глава. «Остатки пепла»
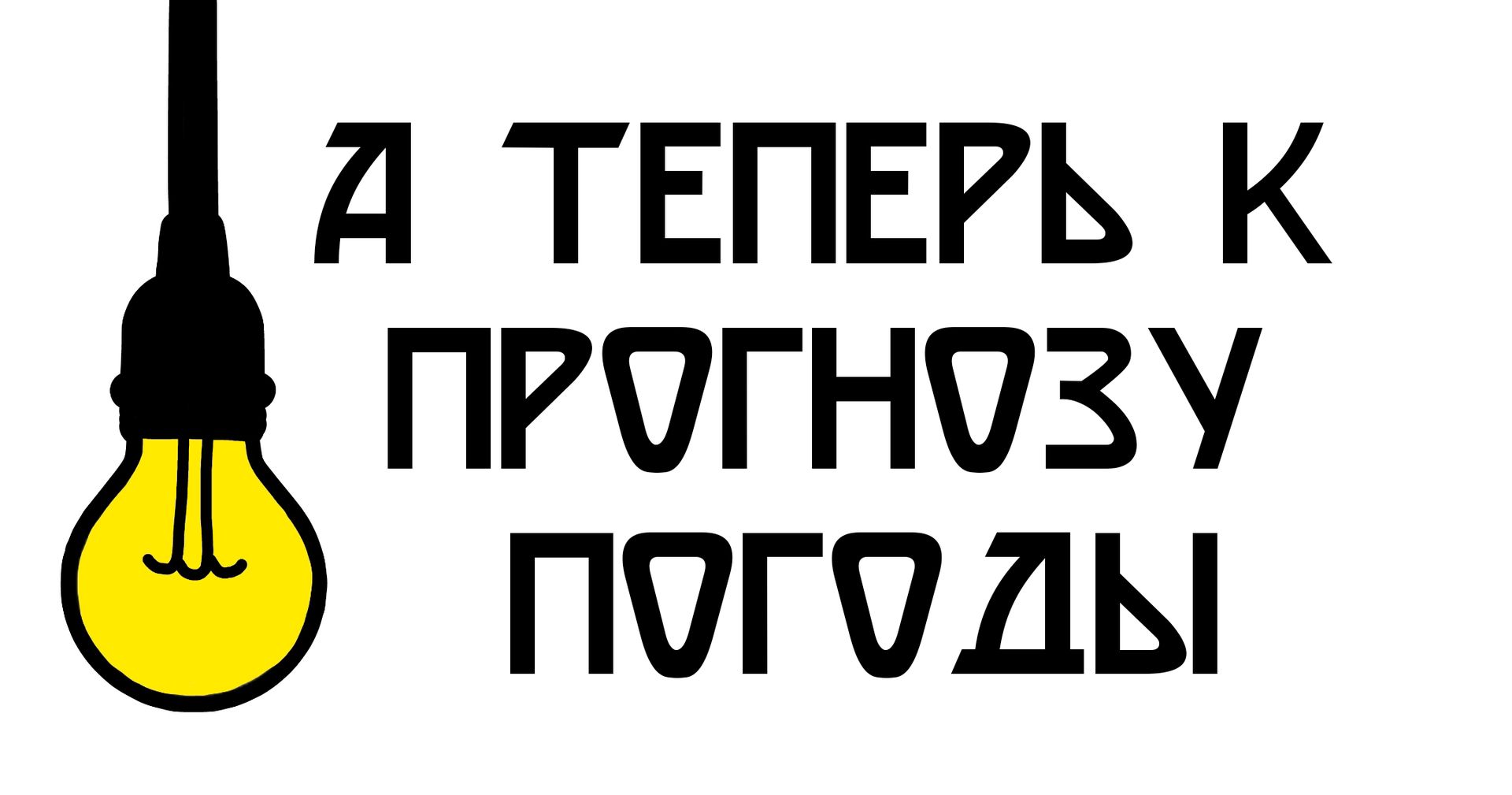
«Бей!» — кричала отколупившаяся краска на блевотно-голубых стенах.
«Он заслужил!» — поддакивал земельно-оранжевый деревянный пол.
«Так его!» — радовалась люминесцентная лампа на потолке.
«Пусть поплатится!» — хлопая, галдели двери.
— Плетченко! — грозный голос злостной директрисы пронëсся сквозь толпу, выбивая Глафиру из транса.
Лицо мальчика было опухшим, красным, абсолютно побитым. Он заливался слезами, ручьи текли по его щекам, как по скалам. И солёная вода обрамляла их, создавая водопад, что громко плескался о дерево. Мальчик хныкал, хныкал, хныкал, хныкал и хныкал, не прекращая реветь и всхлипывать. Он не сопротивлялся от слова совсем. Просто рыдал, подставляя то одну щëку, то другую.
Кулак завис прямо перед его опухшим лицом. Из носа текла кровь, окрашивая верхнюю губу. Глаза закатывались, слëзы продолжали течь, а нос шмыгать.
Слабак.
Трус.
Ничтожество.
Неудачник.
— Плетченко! Ты что опять устроила?!
Глафира испуганно пискнула, слезая с побитого ею же мальчика, вбегая в толпу галдевших и охающих детей, но те не расступились перед ней, а остались стоять на месте, щëлкая камерами на телефонах и блестящими фонарями при видеосъёмке. Девочка с двумя чëрными косичками зарычала, хватая каких-то детей за локоть и отталкивая их в сторону, чтобы пройти, но тут же острые ногти директрисы впились в её плечо.
Не успела.
Глафира испуганно обернулась, и с её чëрными глазами встретились холодные и строгие голубые директрисы, что каждую фразу произносила с таким же цоканием, как когда высокие каблуки стучали об пол:
— В кабинет, — она наклонилась к детскому личику. — Живо.
Глафира раздражëнно мычала, плетясь следом за женщиной, что крепко сжимала её ладонь.
Прищурившись, Глаф оглядела улицу Анкт-бурга из окна. Всë так же мрачно, всë так же темно, всë так же уныло, а дома, дороги и люди всë так же блестят.
У искусственного золота, которое делают крабы на основе человеческих чешуек, есть довольно странное свойство: ослеплять. По идее, оно должно работать, как ночной светильник: мягкий свет, которого вполне достаточно, чтобы различить объекты во тьме. Но нет, вместо этого это буквально карманный фонарик: такой же яркий и так же ослепляет, стоит посмотреть на него.
Глаф не раз задавалась вопросом, почему у остальных людей (хотя она бы их назвала сбродом сумасшедших отродий цивилизации) всё нормально. Ей хватает и пяти секунд, чтобы её чëрные глаза начало щипать, а другим более чем хорошо: добавляют это противное золото даже туда, куда не требуют — и ничего.
Ну, вот как раз. Глаза заслезились, и Глаф вытерла пелену ладонями, жмурясь и морщась. Она дëрнула шторку, и свет из окна померк, как и сам вид Анкт-бурга, осталось освещение лишь от чуть-чуть позолоченных стен.
Братья Ос собирались на очередную вылазку — все они ходили парами и по очереди, оставляя одного из троих в Каморке. Сейчас очередь выпадала как раз на Хара и Лива. Первый затачивал нож, шрякабая им об кусок металла, а второй ложил патроны в магазин пистолета.
Хмыкнув, Глаф прошла к длинноволосому блондину и вытянула руку, в ожидании. Но Хар не обратил на неё внимания, голубыми глазами сверля уже давно заточенное лезвие.
— Нож дай, — сказала девушка с короткими пушистыми волосами приказным тоном, понимая, что молча ждать бесполезно.
Хар уставился на неё, как на дуру и сумасшедшую. У Глаф было ощущение, что он сильнее даже вцепился в рукоятку, его относительно статная поза напряглась, а длинный нос фыркал в напряжении.
— Я тебя не убивать собралась, а бутеры сделать вам, дурилка, — закатила большие чëрные глаза Глаф, уперев руки в бока.
Блондин смутился, убрал светлый локон за ухо, опустил насыщенно голубые глаза в пол и смущëнно, будто отрывая от себя какую-то часть души, передал нож.
Лив, наблюдавший за этой сценой, расхохотался, а старший брат бросил на него прищуренный взгляд, на что младший небрежно махнул рукой, как бы говоря этим: «Мой смех обоснован, братец».
— Мне с сыром и маслом! — попросил Лив, улыбаясь и складывая пистолет за пояс.
Глаф вопросительно обернулась на Хара, на что тот пожал плечами: мол, делай, какой хочешь.
Глаф взяла нож, прошла на кухню и открыла холодильник, в котором не было никакого освещения, ни единой мелкой лампочки. Она взяла батон хлеба и колбасы, а также масло. Приподнимаясь на цыпочках из-за своего короткого роста, дотянулась до радио и положила его на стол, к продуктам. Нажав кнопку и повертев колëсики в разные стороны, коробка начала издавать что-то членораздельное, кроме статических шумов.
— ... А теперь к прогнозу погоды. В Санкт-Петербурге в эту неделю намечаются обильные дожди. Сегодня он должен начаться ближе к вечеру, в...
Не дослушав, Глаф спросила обеспокоенно, вскинув брови:
— А вы успеете?
При дожде запрещалось выходить на улицу и открывать окна. Вся троица особенно сильно прознала этот запрет, когда, думая, что никто не будет следить за этим, однажды открыла шторы, а к ним уже буквально минут через десять долбились в закрытую дверь крабы, пока те поспешно выпрыгивали из окна, понимая, что придётся искать новое укрытие.
— Если что вдруг — переночуем где-нибудь, — подумав некоторое время, ответил Хар.
— Тогда я сделаю побольше бутербродов, — заключила невесело Глаф, начиная нарезать хлеб под какую-то болтовню из радио.
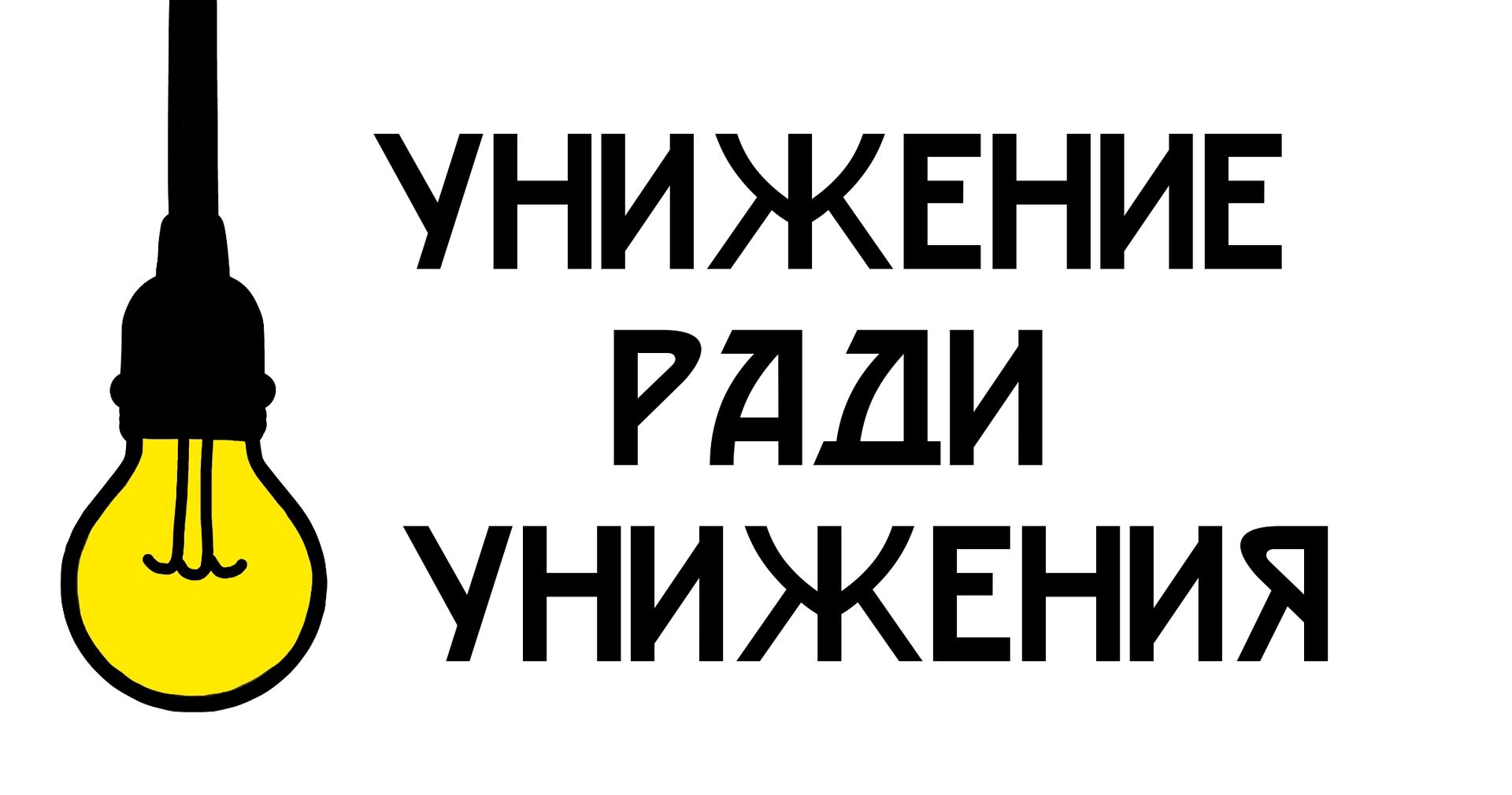
Музыка, спокойная и тихая, лилась в уши из души. Детские пальцы перебирали клавиши пианино, и звонкая мелодия звучала в голове.
Захар не думал о нотах и не видел их. Какая-то мышечная память сама говорила ему, что нужно нажимать, когда и в какой последовательности. В воображении летали очертания нотной тетради, схема, что позволяла определить, что нужно играть, но Захар откидывал эти мысли, как нечто ненужное. Перед ним лежала та же самая книжка, но он закрыл глаза, играя, не глядя. Мальчик слышал, что периодически преподаватель что-то говорил, но он не слушал его.
В данный момент были важны лишь клавиши, лишь то, какие звуки они издавали. Захар даже не заметил, что лицо его спокойно, что детские губки приоткрыты.
И, слушая сердце, мальчик со светлыми волосами остановился, прозвучала последняя нота, и он открыл глаза, с надеждой смотря в лицо пожилого мужчины в красивом галантном наряде.
Преподаватель облизнул сухие потрескавшиеся губы, поправил очки на переносице, сложил руки за спину и проговорил строгим ровным голосом:
— Сфальшивил в конце.
Захар опустил голубые глаза в пол. Он понимал это. Сейчас мальчик перебирал все свои нажатия на клавиши и действительно: с последней нотой он слишком поспешил, нужно было выдержать паузу и не хлопать клавишу слишком сильно. Мелодия играла в его светлой головке, когда он хмурился, с неприязнью сравнивая конец оригинальной музыки и тот конец, который исполнил он.
Преподаватель по музыке им не был полностью доволен никогда. Изначально Захара это раздражало, но впоследствии он сам начал замечать свои же ошибки, и теперь не мог не злиться на себя на то, что был так неосторожен и так нетерпелив. Если бы он только на секунду задумался, как это звучало, а не иррационально по наитию души нажимал на клавиши, возможно, и получилось бы в первый раз что-то такое, что...
Прозвучал стук в дверь.
— Это за тобой, — пробормотал преподаватель, протирая очки специальной салфеткой.
Захар спрыгнул со стула, чуть не упав, и подошёл к двери.
Грузный хохот раздавался с центра улицы.
Вокруг больших позолоченных зданий, что образовывали огромную округлую площадь, столпилась кучка людей.
Вечная темнота улиц скрывала лица Лива и Хара, одетых исключительно во всё чëрное, чтобы они не были такими приметными.
На самом деле троица думала о том, чтобы вписываться в саму обстановку: хотя бы чуть-чуть позолоченная одежда, чтобы они не сильно выделялись, но затем возник вопрос: а если к ним пристанут, как к обычным гражданам? Они не хотели быть каким-то посмешищем просто потому, что какой-то краб на улице захотел, чтобы они сплясали, а потому было решено именно сливаться с вечной теменью дня и ночи.
Чëрные кофты, чëрные перчатки, чëрные брюки, чëрные туфли, чëрные капюшоны — они буквально невесомо плавали в бесконечной ночи этого мира.
Хар заметил краем глаза, что младший брат стыдливо отвернулся от главной площади и закрыл лицо капюшоном. Старший пихнул его в локоть, отчего тот дëрнулся, поджал пухлые губы и посмотрел на него жалостливыми взглядом карих глаз, сведя густые тëмно-русые брови на переносице, заламывая костяшки пальцев. Длинный нос его беспокойно втягивал воздух, а квадратной формы лицо передëргивалось.
Хар никогда не знал, как относится к эмоциональности Лива. Это добрый и милый мальчик, которому только совсем недавно исполнилось восемнадцать, он просто... не подходит этому миру. Не вписывается в него. Не является его частью.
С одной стороны, это хорошо. Хару пришлось нажать кнопку «выкл» на абсолютно всех чувствах, а Глаф — дëрнуть рычажок «ненависть». И среди них, можно сказать, здравым смыслом и разумом, выступал именно Лив, который истерично кричал про то, что они перебарщивали порою. В каком-то смысле самый младший хранил в себе человечность всех троих, забрал у Глаф и Хара их и спрятал у себя, что они остались в целости и сохранности. А именно такое впечатление и складывалось, к слову: наверное, они бы никак не реагировали на призывы Лива остановится, если бы сами изуродовали свои самые добрые качества, а не младший забрал их, храня бережно и нежно у себя в душе, готовый отдать обратно владельцам в любой момент.
С другой стороны, это напрягало. Напрягало мешканье при выстреле. Напрягали лëгкие сомнения, когда они что-то воровали. Напрягали сморщенное лицо и жалость к трупам. Напрягали вскакивания среди ночи в поисках успокоительных таблеток от слишком повышенной тревожности. Напрягали слëзы и сбившиеся дыхание.
Они, эти отродья, не заслуживали его жалости.
— Не сентиментальничай, — в который раз говорил Хар, хмуря своё острое лицо.
Пелена образовался в карих глаз, и Лив её поспешно стирая её, как будто никогда и не было ничего, как будто что-то просто глаза попало. Убрав локоть и встряхнув его от влаги, он пробормотал совсем чуть-чуть раздражëнно:
— Я не сентиментальничаю, — однако действия говорили обратное: Хар видел, как он сгинал костяшки пальцев, как нижняя губа дрожала, и практически слышал сбывшееся дыхание. — Просто это... — нахмуренные карие глаза вновь взглянули на площадь, — унизительно.
Хар повнимательнее присмотрелся сквозь толпу, прищурив насыщенно-голубые глаза.
Посередине площади располагался большой стул с вытянутой спинкой. Она была обита красным бархатом, а все железные части — позолочены: ножки, края спинки, кнопки в обивке... Видимо, подобие трона.
И на нём, как царь всея человечества, развалился краб. Чëрная мантия с пончо спадала на тротуар, ладони в чëрных перчатках нетерпеливо хлопали в ладони, на лице — золотая маска, прикрытая тëмным капюшоном. Она источала яркий свет и изображала весёлое лицо: прищуренные прорези для глаз, зубастая улыбка с вытянутыми губами, неприлично слишком раскрытые ноздри.
Краб хлопал в ладоши и дрыгал ногами, постоянно ударяя ножки большого стула, и безудержно хохотал. Смех его был тяжëлым, грузным и каким-то неестественным. Однако, несмотря на чувство какой-то ненатуральности, он, не переставая, весело гоготал.
— Еба — хотел проматериться Хар, когда разглядел, что делали перед крабом людишки, но Лив вовремя хлопнул его по губам, остановив поток ругани.
Блондина захватило чувство невероятного отвращение. Нестерпимо хотелось закурить, прогнав эту желчь, поднявшуюся в горле.
Казалось, это понял и Лив, достав пачку сигарет и протянув их ему. Золотые края обрамляли кончик бумажной трубочки, и им же Хар и чиркнул и о саму коробку. Золотая часть зажглась, и вместо рыжего, ярко-красного огня отплясывал что-то жëлтый самозванец. Золотой огонь тихо кружил вокруг бумаги, медленно жуя её и пуская такого же цвета дымок.
Запахло табаком, но даже он не привёл в чувство Хара, который обычно сразу приходил в ясность мыслей после курева.
Какая же это всë-таки мерзость.
Какой мужчина стоял на коленях и целовал крабу ноги, а он, в свою очередь, подошвой наступал ему на лицо, оставляя на бежевой коже грязные отпечатки песка и земли.
Ещё двое людей между собой спорили и кричали, кто будет следующим. Они дрались, били друг друга, рвали на себя и на своём сопернике одежду, царапались, кусались. Вот один из них вцепился своему оппоненту в ухо, с яростью пытаясь оторвать кончик, а другой кусал ему палец, точно так же пытаясь вырвать эту часть тела.
Они буквально бились насмерть ради того, чтобы...
Краб снова проехался подошвой по лицу мужчины.
Лив не прав. Это не унизительно.
Это какой-то сплошной абсурд и безумие.

В машине было тихо.
Аристократические здания сменялись другими такими же, высокие — одноэтажными, более тëмные краски — светлыми и белыми, широкие улицы — узкими, однополосное движение — перекрëстком, кучка людей — одним человеком.
Центральные улицы Санкт-Петербурга всё отдалялись и отдалялись, пока вид на белые изысканные дома не превратился в вид на реку, по которой проплывали нескончаемые лодки с туристами.
Но, в конце концов, и это изменилось. Постепенно высокие и красивые дома стали унылыми пятиэтажками с грязными кирпичами.
Глафира поëрзала на сидении в маминой машине. Было тихо и неуютно. Она не знала ни что сказать, ни как начать разговор, ни как его продолжить, ни как закончить его, выведя его в свою пользу.
Тëмные стенки давили на неё, пятиэтажки из окна с презрением окидывали взглядом девочку, а машина подпрыгивала, вынуждая признать вину.
Не что бы Глафира не понимала, что она виновата. Она понимала, что в некоторой степени переборщила. Она понимала, что реагировать нужно было спокойнее. Она понимала, что если и бить, то не настолько сильно. Она понимала, что мальчик был младше её, и многое не понимал из того, что делал.
Она понимала всё это.
Но это не значило, что Глафира могла смириться с клокочущим чувством вины в груди. Оно обжигало, от него горело всё тело, кружилась голова, а кожа потела. Глафира ненавидела это чувство, но не готова была его признать. Не была готова, могла, не хотела, не умела.
Да, Глафира перегнула палку, но ведь это он первый начал. Он был тем, кто...
Глафира судорожно вздохнула. Вина добралась и до глотки. Она овладевала всё новыми и новыми территориями в теле девочки. Ей уже было тяжело дышать, так что же будет, когда вина пройдёт ещё чуть дальше.
Она потеребила чëрную косичку. Нужно было что-то сделать, что-то сказать, хотя бы просто промямлить, потому что это было невыносимо. Ей казалось, что если она сейчас ничего не скажет, то задохнётся просто насмерть.
— Прости, — выпалила Глафира тихо, ощущая, как чувство вины торжествовало, упиваясь своей победой, и покорно уходило.
Мама не обернулась. Лишь строгий и хмурый взгляд чуть коснулся дочери — но не более. Она не сказала ни слова.
От этого было только ещё хуже. Молчание разъедало нервные клетки только быстрее, охотнее и задорнее, чем любое ругательство или выговор.
Хотелось провалиться сквозь землю. Глафира опять опозорила маму. Сколько раз она уже так приходила по вызову директора? Пять? Шесть? Десять? Больше?
Глафире не хотелось знать точную цифру.
Мама, очевидно, злилась, но не подавала виду. Она всегда так делала. Она никогда не позволяла себе срываться на дочери.
Но, ей-богу, было бы лучше, если бы мама кричала — Глафира бы выдержала любой ор, потому что это было лучше, чем убийственное молчание. Потому что злость, гнев, раздражение — это всё временно и всё проходит, но разочарование... оно не отпускает очень и очень долго.
И молчание мамы давало Глафире лишь понять, что она не злится, она была разочарована тем, что надеялась на то, что её дочь исправит своё поведение.
А она этого не сделала.
Глафира потупила чëрные глаза. Чëрные косички спадали на грудь, а прерывистое дыхание чуть качало их.
Глафире было так мерзко от самой себя. Ну, почему, почему она просто не могла быть такой же, как все? Ну, почему, почему она не могла просто успокоиться в сию же минуту? Ну, почему, почему она просто не могла утихомирить себя? Ну, почему, почему она заставляла маму снова так унижаться просто потому, что не умела совладать со своими эмоциями?
От раздражения на саму себя Глафира пнула кресло.
Мама от неожиданности дëрнулась, но лишь крепче ухватилась за руль, стискивая зубы, однако тут же сдержала агрессию.
— Глаша, — лишь с усталостью от всего сказала она.
— Больше не буду, — поспешно промямлила дочь, ругая себя опять за неспособность сдержать порывы эмоций. — Не буду больше! — вспыхнула она вся. — Не буду! Не буду! — убеждëнно говорила Глафира, уже имея в виду случай в школе.
— Глаша, — сдержанно проговорила мать.
— Но он первый начал! — продолжала дочь криком, ведь, начав, она не могла уже остановиться. — Он взял мои вещи без разрешения! Он-он-он, — заикалась от от раздражения она, — взял мой рюкзак и спрятал в мужском туалете!
— Глаша, — чуть повысила голос мама.
— Он и-и-издевался надо мной! Он смеялся, что я теперь никогда не получу свой рю-юкзак!
— Глаша.
— Он обзывался, когда я его-го достала! Он сказал, что я —
— Глафира!
Грозный крик пронëсся по всей машине, а мать обернулась полностью к дочери, сверкая своими строгими глазами.
Послышался грохот, мама испуганно вскрикнула, а у дочери всё потемнело в глазах.
Дура.
Вспыльчивая, неуравновешенная дура.
Если бы Глаф назвали истеричкой, она бы не обиделась, потому что авария в тот день лишь это и доказывало.
Она с настойчивостью ударила грушу, та совсем чуть-чуть качнулась и вернулась в исходное положение.
Подвал под Каморкой был тëмным, сырым и холодным. Лишь золото на стенах освещало помещение — не более, потому что нечем было освещать.
Это было что-то вроде спортивного зала. Спустя несколько вылазок Глаф и братья Ос постепенно наполняли подвал атрибутами. Изначально они нашли хотя и порванную, но всë-таки целую грушу для битья — формально, её оставалось только зашить в каких-то местах.
Потом они нашли склад с матрасами, и потихоньку, один за одним несколько дней перетаскивали сюда. В некоторых местах они тоже были порваны, но дело было, опять же, поправимое при желании.
Чуть поодаль же, от груши и от матрасов, был голый холодный пол, а на нëм стояли самодельные мишени на самом различном расстоянии. Это были пустые пластиковые бутылки, жестяные банки и просто листы бумаги, прикреплëнные к дереву. Глаф как сейчас помнила похождения Лива по помойкам и свалкам в поисках нужного для себя, ведь при представшим для него выбор, как сражаться — он решил взять револьвер. Лив не любил излишнюю жестокость, всегда жмурился при виде трупов, так что, вероятно, это был самый идеальный для него вариант. Один выстрел — и никаких мучений ни для него, ни для противника, о котором он так незаслуженно переживал.
Впрочем, самодельные мишени из хлама пригодились и Хару — он любил тренироваться в метании ножа, хотя, конечно же, не забывал про ближний бой.
Глаф снова ударила грушу.
Костяшки пальцев болели, ныли, завывали и истекали кровью от царапин, но девушка не могла остановиться.
Пот стекал по её бледной коже, короткие воздушные чëрные волосы взмокли, но она не могла остановиться.
Ноги подкашивались, тряслись, дрожали, ступни болели, но она не могла остановиться.
Дышать было тяжело, лëгкие забило, прерывистые вздохи выходили изо рта, но она не могла остановиться.
Голова кружилась, виски стучали, в больших чëрных глазах всё расплывалось, раздваивалось, становилось мутным, но она не могла остановиться.
Ей было тяжело, но она не могла остановиться, потому что не заслужила передышку и никогда её не заслужит.

Хар и Лив подходили к заброшенному дому. Он был ветхим, шатким, с разбитым стеклом и заколоченными досками.
Хар принялся искать проход, обходя здание со всех сторон, а Лив вглядывался в тëмные улицы, карауля старшего брата на случай опасности.
Он посильнее ухватился за ручку револьвера на поясе, спрятанного за курткой.
Глаза его, светло-карие, рябило, когда он задерживал взгляд на золотых вкраплениях и покрытиях, так что он запрокинул русую голову вверх
Даже луны на небе не было. Только звëзды. Раньше его это сильно удручало, а образ солнца как такового стирался из памяти, ведь видел он его совсем маленьким, но сейчас как-то привычно.
А было ли солнце таким же жëлто-белым шаром в небе, как он его представлял? А было ли оно маленьким на человеческий взгляд, но таким жалящим глаза, если долго на него смотреть? А было ли небо таким же синим, как глаза его брата? А было ли оно также устелено облаками, лишь изредка бывая чистым? А было ли оно таким же бесконечно голубым?
Лив не знал. Чем старше он становился, тем сильнее образ солнечного света и дневного неба стирался из его памяти, из его детских воспоминаний, когда не было никаких крабов, люди волновались обо всякой чепухе, а брат, возвращаясь с уроков игре на пианино покупал ему мороженое.
Тем не менее, даже не будучи уверенным в том, как на самом деле выглядело светило, даже имея сомнение по поводу собственных воспоминаний — Лив всё равно чувствовал неимоверную тоску, смотря на бесконечно тëмное небо.
Лив, хотя и пытался, многое не мог понять. И, в общем-то, страдал от этого незнания. Глаф и Хар, в отличие от него, не зацикливались на вопросах глобальных. Они думали лишь о собственном выживании — и, собственно говоря, это нормально. Лив это понимал. Но вместе с тем, как он тоже пытался ужиться в этом мире, он волновался о многом, потому что это многое было недоступно его пониманию.
Например, солнце не светило, но оно всё ещё существовало и излучало тепло. Если бы оно не работало, все люди бы умерли от холода. Искусственное золото не имело нагревательных функций, а, значит, солнце всё таки жарило, но по какой-то причине не светило. Лив до сих пор ломал голову, каким образом можно было выключить главный источник света, но при этом всё ещё заставлять его работать.
Возможно, это работало как лампочка: если её после долгой работы выключить и притронуться к ней, она будет горячей в руках, пусть и неработающей. Возможно, что тепло от солнца — тоже своего рода остаток после длительной работы. Но тогда это всё... не в очень долгосрочной перспективе как минимум для крабов.
Второе, над чем Лив ломал голову днëм и ночью — промывка мозгов, которые со временем повсеместно устроили гражданам. По иронии судьбы, сбежали они втроëм из детдома именно во время процедуры, так что они остались прежними, но мельком, когда уходили, Лив приметил, что выходили дети и работники из страшного медицинского кабинета с благоговейными улыбками и какими-то бутыльками в руках.
Оказалось, что это капли для глаз. Это объясняло, почему людям искусственное золото глаза не жгло — специальный раствор.
Но что за промывка мозгов и какая она — вот главная тайна для Лива.
Было, конечно, предположение, что всё это так же было свойством искусственного золота, но он не знал наверняка.
И, прежде чем шатен успел подумать о том, что именно в недавнее время встал насущный вопрос про то, как заставить лампочки работать, Хар окликнул его, жестом подозвав к себе. Блондин отгрëб мусор от окна, и теперь братья могли пролезть внутрь.
Солнце ярко палило.
Высокие многоэтажные дома возвышались над семьёй Осинковых, отбрасывая на них огромные тени. Машины неслись по дороге, испуская выхлопные газы. Люди в спешке куда-то бежали и лишь Осинковы не спешили: Ливерий с улыбкой на улице облизывал клубничное мороженое, мама держала его за руку, а Захар смущëнно топал за ними, погружëнный в свои мысли.
Его всё ещё занимала сегодняшняя игра. Да, он поспешил. Да, не обратил внимания. Да, позволил такой маленькой детали ускользнуть.
Да, он сфальшивил в конце, как выразился преподаватель.
Но это же не значило, что нужно было игнорировать всё остальное?
Хотя игнорировал ли он? Преподаватель сказал, что это было неплохо. Но ведь это не так! До того последнего момента всё было идеально! Ни одной заминки, ни одной ошибки, ни одной...
— Прекрати дуться, — вывела мама его из размышлений.
Захар моргнул. Он и не заметил, что самопроизвольно сжал кулаки. Не заметил, как надулась обиженно губа. Не заметил, что его голубые глаза всё это время были прищурены. Не заметил, что они уже прошли главную улицу и теперь ходили через переулки, а грохотание машин всё отдалялось и отдалялось.
Захар помолчал некоторое время, опустив голову, а потом сказал, сдерживая клокочущее чувство обиды внутри:
— Но я так стараюсь, а он всегда говорит, что это неправильно! — он оглянулся на младшего брата и увидел, что его губы и щëки были в мороженом. — У тебя это... — Захар неопределённо махнул указательным пальцем, — на щеке.
Ливерий прикоснулся пальцами к указанному месту. Затем размазал ладонью по щеке, а то, что осталось в итоге на руке, слизал.
— Господи, тебе, что, мороженого жалко? Ты, что, голодаешь? — строго пробормотала мама, тут же вынимая из сумки салфетку, оглядываясь на старшего сына. — А ты и так знаешь, что ругать тебя просто так, он не стал бы, — несмотря на сопротивления Ливерия и его отчаянные мычания, она стëрла с его лица остатки клубничного мороженого, а затем принялась вытирать ему руки. — Если тебе нужно ещё, так и скажи, так не нужно делать.
Они снова выходили на главную улицу. Однако перед тем, как перейти дорогу, встали у горящего красным светофора.
— Я знаю, но... — хотел начать Захар, но младший брат его опередил:
— Старики всегда несут какую-то чушь, не слушай его, — пролепетал он, как какую-то мудрость и главную истину жизни.
От этого мама закатила светло-голубые глаза к небу, а Захар испустил лëгкий смешок, не сводя глаз с цифр на светофоре, что постепенно уменьшались:
— Видишь? Даже он согласен! — усмехнулся старший, улыбаясь зубами.
— Лива ребёнок, — покачала головой мама, убирая локоны, выбившиеся из светлой косички.
Светофор ярко вспыхнул зелëным, и Осинковы с остальными людьми у перехода двинулись по зебре на другую сторону.
— И что? Я уверен, что он...
Захар не успел договорить: он услышал крики, грохот, сигнализацию и почувствовал удар по голове и боль в своём теле, как будто парящим, пока не отключился.

Глаф открыла краник, и из него потекла большой и шустрой струëй вода, поблëскивающая золотом цветом. По виду она всё ещё была какой-то прозрачно-белой, но как будто оттенок у неё был светло-жëлтый. Очевидно, что это не чистое золото лилось, однако какая-то часть там явно присутствовала, раз вода имела такой цвет и чуть мерцала.
С рычанием Глаф хлопнула по кранику, и пару капель стекло на белую раковину.
Как будто она ожидала чего-то другого, ей-богу.
Пару раз топнув ногой, повздыхая и закатив глаза, Глаф всë-таки повернула краник в сторону ванны и открыла струю. Взяла чëрную пробку и заткнула отверстие. Постепенно ванна наполнялась светло-жëлтой мерцающей в темноте водой.
Небрежно бросив снятую одежду на холодный кафельный пол, Глаф аккуратно ступила в ванну. Холодная вода чуть обожгла пальцы ног, но довольно быстро они привыкли, и девушка медленно и осторожно залезала, постепенно опускаясь.
Пару раз дëрнув металлический рычажок, Глаф ухватилась за ручку душа, что как будто иголками впивался в покрытую шрамами спину.
Было темно. Тихо. Холодно. Вонюче. Затхло.
Ни души. Ни звука. Ни яркого огонька. Ничего.
Ни-че-го.
Пустота.
Бескрайняя бесконечная пустота.
Глафира не чувствовала своего тела. Не чувствовала даже саму себя.
Ноги онемели: пальцы, пятки, ступни, колени, бёдра, лодыжки — всё. Она не чувствовала, что на чëм-то стояла. Не чувствовала, что где-то лежала. Ноги её как будто парили в воздухе, обжигаемые тьмой и холодом. Плавали, как по морю, но без возможности хоть как-то пошевелиться. Они ощущались свободными, но при этом как будто в самом пространстве были границы, стенки, за которые и невозможно было выйти.
Онемели руки: пальцы, ладонь, локти, плечи — всё. Глафира не чувствовала, что могла ими пошевелить. Странный обжигающий холод обхватывал руки, заставляя неметь, ничего не чувствовать. Было ощущение, что если кто-то проткнëт её иглой — она не почувствует боли, не почувствует хотя бы укола, малейшего писка — просто будет тихо стекать кровь.
Глафира не думала. На мысли ложилось как-то тихо и безвредно облачко, сея в разуме туман. Она вроде и понимала, и размышляла, и действительно думала о чëм-то, но полноценным это было нельзя назвать: были в голове буквы «г», «д», «е», «я» — они были видны, Глафира ощущала само их присутствие, но дотянуться не могла: схватит букву «г» — убегает буква «я», удержит букву «е» — вырывается буква «д». Они вели себя как ребячливые дети, которые не хотели наказания, но Глафира не могла найти в себе, такой сейчас ослабшей, сил, чтобы сказать: «Мне всего лишь нужно два слова», а потому лишь бессмысленно хватала одну за другой и теряла остальных.
А потом стало щипать в глазах. Как будто выжигали роговицу. Яркий свет пробивался сквозь закрытые веки.
Горело. Там так болезненно горело.
Так болезненно, что онемение прошло. Или наполовину прошло. Выборочно. Глафира не ощущала ног и рук, но ощущала, как болели закрытые глаза из-за, очевидно, направленного на неё света, однако не могла пошевелиться.
И с болью, пришедшей так неожиданно и внезапно, пропали и сами буквы. Если раньше Глафира не могла разуметь, как их соединить между собой, чтобы составить нечто связное, то теперь их вообще в этой дымке разума не существовало.
«Йóркто áзалг» — сказал кто-то, и Глафира ничего не поняла.
В голове опять всё было смешано. Она рано обрадовалась, что не придётся связывать все эти разбежавшиеся буквы между собой. Опять выходила какая-то сплошная белиберда, разбираться в которой ей не хватало сил. Хотя, предполагала сама Глафира, если бы она попыталась, то, наверняка, составила было что-то нормальное и человеческое в отличие от того, что ей приподнëс лихорадочный в данный момент мозг.
Через некоторое время девочка почувствовала, как горела щека, и услышала хлопок. От пощëчины было больно, Глафира зашипела, сморщилась, стиснула зубы, но была в кой-то мере благодарна. Казалось, это чуть-чуть убрало туманное состояние мозга, и, когда неизвестный повторил причудливое «Йоркто азалг», то буквы встали в правильный порядок и без её помощи, превратившись в холодный приказ: «Открой глаза».
Чëрные глаза щипало, веки болезненно пульсировали, но Глафира заставила себя поднять их, которые были так тяжелы, словно к ним на ниточке привязали маленькие железные гирьки.
Всё плыло. Глафира не могла сфокусироваться, ощущение, как будто смотрела со дна озера — общие очертания были, но всё было размыто, как в морозном окне, и всё двоилось. Одна невидимая линия на предмете ложилась поверх другой, но неровно, криво, и в итоге всё просто плавало.
Но что-то можно было понять. Кто-то мельтешил перед её большими чëрными глазами, скользя то в одну сторону, то в другую. Перебегал от правой стороны на левую. Эта была тëмная мешковатая фигура, а вместо лица виднелось что-то золотое, но что — Глафира не могла понять.
Прищуренные глаза внимательно наблюдали за таинственной фигурой, которая расчëтливыми, но такими резкими движениями что-то делала — то ли ящики выдвигала, то ли рылась в карманах чëрной мешковатой одежды, то ли наклонялась — все звуки смешались несвязную какофонию, разбирать которую не то что сил не было — не хотелось отделять один звук от другого, определять их и делать какие-то выводы.
А потом Глафира почувствовала, что её подхватили и перевернули на живот. Она сама попыталась хоть чем-то шевельнуть, но её встретило лишь разочарование. Всё ещё неподвижна.
Глафира сейчас ощущала себя тряпичной куклой в руках этой чëрно-золотой фигуры. Однако что-то она поняла ясно, как ни странно — холод со спины перебрался на живот. Значит, она на чëм-то лежала, причём голая.
А потом что-то такое же холодное скользнуло по коже. Сначала она ничего не почувствовала, однако далее закричала. Тёплая кровь палилась, грея охлождëнную спину, а рана щипала. Глафира попыталась повернуться, чтобы посмотреть, но шея отказывалась слушать.
Затем что-то с дребезжанием упало. Сильнее прищурившись, Глафира разглядела перед собой маленький крохотный столик. А на нём стояла плоская прозрачная миска, напоминающая по формам пепельницу. И туда упал клочок чего-то бежевого и красного.
И прежде чем Глафира успела сообразить, что это вообще такое — холодный метал снова прошëл по спине, снова защипало, и даже с большей силой, от чего содрогнулось вмиг всё тело, сердце бешено застучало, а из глотки вырвался крик.
На прозрачную миску вновь через несколько секунд упал клочок эпителия.

Лив и Хар зашли внутрь помещения. Было, что вполне ожидаемо, темно. Но, вот что действительно удивительно, ни одного кусочка искусственного золота. Вообще ничего. Это было даже странно, на самом деле. Так... непривычно.
Хар кивнул Ливу. Тот вздохнул, полез в карман и вытащил короб с сигаретами, передавая их старшему брату. Тот выхватил, провëл золотым кончиком по картону, и жëлтый огонь с мерцающим дымом захватил тëмное пространство.
«Приятно и полезно», — подумал Хар, глубоко вдыхая табачный дым (а табачный ли?) и наполняя сладким запахом лëгкие.
Лив же, хотя и привыкший к куреву брата, всё равно закашлялся и начал трясти рукой, прогоняя дым от своего лица. В ответ на это Хар похлопал младшего по спине и отошёл в сторону, подальше от него.
Это был заброшенный магазин ретро вещей. Хар мог разглядеть запылившиеся радио на полках, мог разглядеть неработающие колонки, мог разглядеть большие трубы граммофонов, мог разглядеть ряды пластинок в картонных ящиках, мог разглядеть чëрные кубы — вероятно, старые телевизоры.
Невольно Хар усмехнулся и подошёл к одну из стеллажей, приседая на корточки и ненароком вспоминая не такой уж и давний разговор про поиск этой техники.
— Только вчера мы думали, сможем ли мы их найти, — с удивлением хмыкнул Хар, нажимая на абсолютно случайные запылившиеся и неработающие кнопки.
Лив подошёл к нему и присел, выглядя заинтересованных.
— Как думаешь, крабы сделали так, чтобы розетки не работали? — приподнял брови младший, взял один из телевизоров, обхватив его двумя руками, и оглядывался, глазами ища белый прямоугольник с дырками для вилок.
Хар почесал светлую голову, и длинные волосы его растрепались, полезли в глаза, из-за чего срочно пришлось зачëсывать их назад одной рукой, пока в другой испускала золотой дым сигарета.
После того, как они с Глаф нашли прозрачные стеклянные лампочки, Хар пришëл к интересному выводу: зачем разбивать их, если можно просто конфисковать? Зачем запрещать пользоваться огнём, если можно изменить состав пороха, древесины и ещё чего-то там? Зачем избавляться от телевизоров, если их можно просто забрать и не возвращать?
Это имело на самом деле много смысла. Это лишние и ненужные действия. Затрата и усилий, и ресурсов. Было логично, что проще всех убедить в том, что этих вещей больше не существует и что они в принципе не могут работать в нынешней реальности. Можно было сказать, что даже в разы проще и экономнее.
— Возможно, они и не сломаны, — задумчиво проговорил Хар, следуя за младшим братом, что отыскал розетку почти у пола, — но связи точно не будет.
— Всегда есть диски или кассеты, — беспечно пожал плечами Лив, распутывая толстый чëрный тяжëлый провод. — К тому же, — он обернулся, и внимательные карие глаза впились в старшего, — так мы узнаем, есть ли вообще электричество.
В Каморке, как ни странно, не было ни одной розетки. На том месте, где они раньше были — тëмные и глубокие отверстия с переплетëнными в узел проводами. Плита работала на газе, а то же самое радио — на батарейках. Даже места, где должны были быть люстры и то сломаны.
С одной стороны, это рушило весь вывод Хара, но с другой наоборот подтверждал. Если крабы сломали в некоторых местах розетки, это не значило, что они в принципе отключили проводку. Так что он выжидающе наблюдал за действиями младшего брата, что уже втыкивал вилку. К сожалению, не было ничего, что подтверждало бы, что электричество было — ни горящей лампочки, ни звука.
Однако... Лив, ничуть не расстроенный, нажал кнопку включения.
Раздался дребезжащий звук статики, жужжание и глюки. Жуткие громкие глюки. Тонкий звук сквозь шипение резал уши, и Хар, прорычав, нажал на «выкл». Всё равно экран даже не загорелся, что уж там говорить про какие-то картинки.
Лив сидел в оцепенении. Он не двигался, ничего не сказал, а просто пустым взглядом уставился на чëрный пыльный экран. Сигарета потихоньку догорала и тухла, испуская последние всплески золотого дыма.
— Всё нормально? — с этими словами белая бумага зашипела, окунув братьев Ос обратно во тьму.
Хар, обычно бесстрастный и старающийся не проявлять эмоций, ощутил где-то в груди беспокойство. Как будто в одну единственную секунду всё замерло и остановилось: лëгкие перестали дышать, сердце — биться, желудок — переваривать, кровь — циркулировать, а мозг — думать. Всего на секунду, но было это очень ощутимо. Дрожь пробежала по его телу.
Лив ещё с детства страдал... тревогой. И дело было не в каких-то мелочах — это не был человек, который волновался по пустякам. Его мало что пугало, по правде говоря. В последний раз Хар видел брата напуганным в прошлом году — Глаф сильно заболела и залегла на недели, находящаяся постоянно в лихорадочных снах. Один раз Ливу показалось, что она перестала дышать — вот что его напугало до смерти. Сама болезнь его подруги ни разу не поразила его душевное состояние. На самом деле он был более чем уверен, что нужно лишь подождать — и она встанет на ноги, и всё пойдёт, как обычно.
Лив не был нервным человеком, вечно беспокоящимся о том и о сëм — вот в чëм суть.
Но у него были приступы. Они начались с тех пор, как... (Хар не закончил эту мысль, вспоминая тëмные и сырые коридоры завода, по которым крабы вели тогда ещё маленьких братьев).
По большей части они ни от чего не зависели. Бывали, конечно, моменты, когда было очевидно, из-за чего мог начаться приступ, но чаще всего не было никакой причины.
«Иногда это просто... случается, — пытался им объяснить однажды Лив. — Я могу просто сидеть за столом и есть, как внезапно чувствую, что не могу дышать. Не из-за чего. Я просто начинаю паниковать без какой-то реальной причины, я даже думать в тот момент не могу, мне просто... страшно и плохо».
И не шевельнувшийся ни на дюйм и не проговоривший ни слова Лив не внушал ничего хорошего на самом деле.
Хар невольно хотел полезть в рюкзак и достать таблетки, как вдруг в темноте он различил движения и шорох, а после — золотой огонь вновь чуть-чуть осветил помещение. Лив поднялся с колен, вытянулся, хрустнув костями, развернулся и протянул горящую сигарету старшему брату. Тот молча взял, однако в душе чувствовал преогромное облегчение.
— Только не кури, пожалуйста, — попросил Лив, сложив одну ладонь в другую. — Ты так бронхит схватишь.
— Не страшно, — моментально ответил Хар, однако, увидев пыхтевший курносый нос, поджатые пухлые губы и строгие карие глаза, спешно добавил. — Не буду, — и отодвинул от себя золотой дым настолько, насколько возможно, оглядывая помещение чисто-голубыми глазами. — Раз шипило, значит, есть электричество.
Лив кивнул, согласный, и прошёл в центр комнаты, кусая задумчиво палец:
— Надо будет вернуться сюда и проверить, работают ли лампочки, — выглянул слегка в окно. — А то я не видел, чтобы в других домах оставили розетки.
— Ливерий! — истошно кричал Захар, прыгая от одной решëтки к другой и вцепляясь в них пальцами.
От соседней противоположной камеры не донеслось ни звука.
— Ли-ве-рий! — вновь попробовал Захар, но никакого ответа не последовало.
Светловолосый мальчик обессиленно рухнул на пол. Детские пальцы скатились по холодному железу вниз.
— Лива...
Тишина.
Слëзы застлали зрение. Всё расплывалось, становилось нечëтким, а тело сотрясали рыдания.
Плохо.
Ему было так плохо. Ему казалось, что его сейчас вырвет. И вместе с остатками от еды ещё и сердце вывалится. Именно так. Оно будет лежать на холодном полу, истекать кровью и биться какое-то время. Оно будëт всё облëванно, покрыто мерзкой слизью и солëной водой из глаз. А после кровь потечёт и из них — выплаканы все слëзы, а рыдать хочется пуще прежнего. И красные реки будут вытекать из глазных яблок, изо рта, из носа, заливая пока ещё бьющееся сердце.
И Захар будет смотреть на него и смотреть, смотреть и смотреть, пока последний стук не заполнит тëмную камеру.
— Захар..? — тоненький мальчишеский голосок с противоположной камеры.
Господи, он жив.
Захар тут же метнулся на коленях к решëтке. И всё равно, что поцарапает колени или запачкает штанины. И всё равно, что из пальцев уже текла кровь от беспорядочного и бессмысленного хватания за железо несколько часов подряд.
Мальчик высунул голову настолько, насколько возможно, из голубых глаз продолжали течь реки слëз. На него смотрели такие же заплаканные и опухшие карие глаза младшего брата.
— Мама..? — не закончил предложение Ливерий, голос его дрожал и как будто трескался, а карие глаза уставились жалобно на брата, умоляя сказать, что это неправда, что так не может быть, не могло так случиться и произойти.
Захар почувствовал, как с огромнейшим комом в горле, кивнул, а от тяжести голова ударилась об пол. Защипало, но он так и остался в этом положении. Стоя на коленях и содрогаясь в рыданиях.
Всего секунда — и Ливерий сам залился слезами, крича протяжно и громко. Его бессвязный голос ломался, обрывался и прерывался судорожными вздохами и заиканиями.
Будь здесь другая ситуация, Захар попытался бы успокоить брата. Но ему было плохо и морально, и физически. Его голова раскалывалась, во лбу и в висках стучало, как по барабану палочками. Ноги ныли, туловище ныло, руки ныли — всё ныло. Везде было больно. Всё болело. Всё кричало о своей боли.
Его тошнило. Его невероятно сильно тошнило. Живот сжимался в тисках, завывал и протяжно урчал. Стенки как будто давили, становились тесными, узкими, а в горле вставал ком.
И от осознания страшного слова «смерть» сердце настолько сильно разрывалось на куски, что ему хотелось, чтобы он тоже умер.
Убейте его кто-нибудь. Пожалуйста.
Он не будет сопротивляться, у него нет на это сил.
Просто... Убейте его.
Пожалуйста.
Отдалëнно Захар услышал шаги. Ему не хотелось поднимать голову, а потому единственное, что он разглядел — чëрную мантию и лакированные сапоги.

В школе дети всегда говорили, что манная каша в больнице ужасна. Как рвота и ком в горле.
Но она была даже не то что неплохой, но даже и хорошей. Возможно, они имели в виду, что её делали с комочками. Но Глафире нравилась именно такая.
А, может, ей просто очень хотелось есть. Кто знал? Она точно не собиралась размышлять об этом сейчас.
Главное, что было вкусно, и Глафира не собиралась жаловаться.
— Клянусь, — доносился мужской голос из коридора, но девочка не прислушивалась, — эти братья были худшими. Младший постоянно ревëт, а старший то и дело огрызается, — глубокий уставший вздох.
Молочный вкус пронизывал кончики языка, сладкие комочки оседали во рту, а детские зубы разжëвывали маленькие зëрнышки.
— Они потеряли родителей, что Вы от них хотите? — робкий женский голос. — Что вообще произошло?
— В этом и проблема, что никто не может внятно объяснить это мне, скольких бы жертв проишествия я не опрашивал, — молчание. — Была автомобильная авария, но стоило нам приехать — ни одного тела, только машины всямтку.
Тело всё ещё ощущалось несколько оцепенелым. Движения, боль — всё это не казалось теперь чуждым, но каким-то медлительным, что ли.
Глафира старалась не обращать внимания на тугие бинты, обвивающие её туловище, старалась не обращать внимания на то, как пульсировала спина, старалась не слишком сильно наклоняться и не слишком сильно двигаться.
Вместо этого она предпочла заметить, что матрас был мягкий, что в белой комнате пахло очень свежо, что каша была вкусной, что освещение было приятно-светлое, что было тихо и уютно.
— И..?
— Что «и»? Искали их несколько дней, пока несколько жителей не сказали, что в заброшенной тюрьме почему-то горел свет из окон. Там и нашли. Всех, кто попал в аварию, — голос смолк. — Понятия не имею, кто это был, но этот маньяк скрылся в ту же секунду, как мы пришли, — снова тишина. — Службы всё ещё ищут его близ того места.
— У них всех... была повреждена кожа очень сильно.
— Да, вероятно, почерк этого сумасшедшего.
Железная ложка продолжала звякать между зубами и стучать по керамической тарелке. Здесь было более чем мило.
Гораздо лучше, чем было, по крайней мере.
Дверь тихо открылась, и в палату вошёл мужчина в тëмно-серой форме с яркими погонами на плечах. Фуражка чуть спадала с головы, обнажая взлохмаченные чëрные волосы. Да и вообще полицейский выглядел уставшим: пот, стекавший с толстого лба, ярко выраженные мешки под впалыми глазами и в принципе несколько опухшее лицо.
Глафира внимательно проследила за человеком, ложка с манкой застыла в воздухе в нескольких сантиметрах ото рта. Стеклянные серые глаза уставились на девочку с чëрными косичками.
— Я... не мешаю? — запыхавшимся голосом поговорил полицейский.
Глафира мотнула головой, проглотила манку с ложки и отложила тарелку в сторону.
Мужчина кивнул сам себе, поправил фуражку и присел на корточки, около кровати. В руках у него был блокнот, в который он устало пялился минуту, а потом взглянул на девочку. Внимательные чëрные глаза встретились со стеклянными серыми.
— Глафира Плетченко, да?
Девочка кивнула и опустила руки между ног, соединив ладони вместе.
— Можешь рассказать, что сегодня произошло? До того... — медленный глубокий вздох, — как ты вышла оттуда? До того, как мы привезли тебя сюда?
Глафира хотела. В голове прокручивались различные картинки сегодняшнего дня, однако особенно сильно она неожиданно сконцентрировалась на воспоминаниях о маминых чëреых глазах. Пронеслись молниеносно вспышки в голове, пульсация прошла по телу, а и так болящую спину стало ломить сильнее. Костяшки пальцев хрустнули, сминая с силой мятые простыни. Детские пухлые губки задрожали, а в чëрных глазах образовалась пелена.
— А где моя мама? — голос надломился, и неминуемая, но так долго откладываемая истерика захлестнула девочку с головой.
Предложение за предложением, буква за буквой, и Глаф почти проглотила целую главу. Оставалось пару страничек, совсем ничего. Золотые буквы плясали перед глазами и переодически ей приходилось протирать веки, ведь щипать начинало безумно, когда девушка долго пялилась в книгу. Переодически даже капали слëзы из-за боли.
Что-то капнуло. Глаф моргнула и встрепенулась. Снова что-то звонко стукнуло. И снова. И снова. И снова.
— Сука, — выругалась Глаф, заметив, как дождь барабанил по стеклу.
Теперь сегодня их точно не будет.
Тысячи мыслей хотели начать роиться в её голове, но донëсся другой стук. Во входную дверь упорно и громко долбились.
— Да твою ж мать! — зашипела про себя Глаф.
Что ж теперь делать-то? Братья ещё не вернулись, а в дверь стучали. И стучали явно крабы. А раз это были они, то никому не поздоровится. Точнее, ей не поздоровится.
В обычной ситуации первом порывом должен был быть побег, но незадача как раз состояла в отсутствие двоих людей.
В дверь продолжали долбиться.
Если Глаф задержится ещё на несколько минут — в Каморку ворвутся крабы.
Так. В прошлый раз в такой ситуации было двое у двери. Наверное, сейчас также. Вероятно. Возможно. Не факт, конечно, но...
В дверь продолжали долбиться.
Насколько было реальным тихо вырубить двое крабов с ружьями..?
Стук усилился.
— Да сука, мать твою, — отчаянно залепетала Глаф про себя и, наконец сдавшись, ненавидя и саму себя, и остальных, дрожащими от страха руками отворила дверь.
На пороге стояла Кира, мокрая и измождëнная, пошатываясь на ногах настолько сильно, что в итоге рухнула, ударившись головой о землю.
Глаф не знала, рыдать ей или плакать, ей казалось, что у неё сейчас просто будет истерика.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro